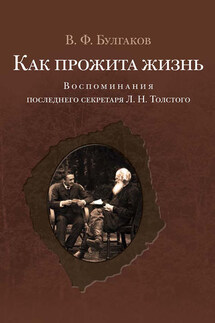В споре с Толстым. На весах жизни - страница 31
Не то – человек зрелый, возмужалый. Сравнительно с юношей он кажется «более жестоким, менее великодушным, более корыстным». «Но разве, – спрашивает Штирнер, – он от этого становится хуже?» Нет, по Штирнеру, возмужалый человек эволюционировал к лучшему. Как так? А так. «Лишь тогда, – читаем у философа, – когда человек полюбит себя во плоти, таким, каков он есть, – а это наступает только в зрелом возрасте, – лишь тогда появляется у него личный или эгоистический интерес…» «Возмужалый человек тем отличается от юноши, что принимает мир, каким он есть, вместо того, чтобы все в нем осуждать и исправлять…» Видя, что все кругом «служат», служат «человечеству» или «обществу», или «семье, партии, нации», зрелый, знающий цену своей жизни человек восклицает, подобно самому автору книги: «Но я – властелин человечества, я сам – человечество, и я ничего не сделаю ради блага какого-то другого человечества».
Тут личность возмутилась против вечной эксплуатации со стороны «общества» и «человечества». И у нее есть резон. В самом деле, ведь и она тоже безусловно – часть того самого человечества, жертвовать ради которого своей плотью, своей свободой, своей жизнью ее заставляют! Ее силы, ее плоть – это единственное и только однажды, на один только срок данное ей достояние, – кто же смеет отнимать у нее это достояние?! Она будет защищать его!..
«Таким образом, – говорит Штирнер, – возмужалость означает собою второе самонахождение». И он еще раз повторяет: «Мальчики имеют только не духовные, т. е. бессмысленные и безыдейные интересы; юноши – интересы только идейные; у возмужалого же человека встречаем интересы плотские, личные, эгоистические». Иначе говоря, «юноша нашел себя как дух и потерял себя во всеобщем духе, в совершенном, святом духе, в человеке, как таковом, в человечестве, – короче сказать, во всех идеалах; и, напротив, возмужалый человек находит себя, как духа во плоти». Это-то только Штирнер и считает человеческой зрелостью. На этом-то только и должно быть заложено будущее общество.
Очень остроумно писал Макс Штирнер о стоиках, отрекающихся от радостей жизни. Стоик, – говорил он, – хочет сказать, что спокойствием духа можно уготовить себе скорее всего хороший жребий и в этом спокойствии лучше всего прожить жизнь. Но так как он не может освободиться от мирского и потому именно не может, что все его силы направлены на то, чтобы освободиться от жизни, т. е. чтобы оттолкнуть мирское (причем необходимо должны оставаться отталкивающий и отталкиваемое, ибо иначе не было бы отталкивания), то он в лучшем случае достигает высшей степени освобождения и отличается от менее освобожденных только степенью, только количественно. Если бы даже он достиг такой степени умерщвления земных чувств, что только однообразно шептал бы словечко «Брама», то он все же по существу мало отличался бы от человека, живущего внешними чувствами. Ибо… отталкиваемое все-таки не было бы оттолкнуто окончательно. Так не напрасен ли был весь труд отталкивания?
Штирнер называет учение стоиков «учением об отталкивании от себя мира и о самоутверждении против мира». На таком учении основано и все монашество, христианское и буддийское.
Крайне важны для нас выводы о духовном призвании человека и о границах этого призвания, как они намечены в «Легенде о Великом Инквизиторе», входящей в состав «Братьев Карамазовых» Достоевского. Хотя легенда эта и вложена в уста одного из действующих лиц романа, нет сомнения, что высказанные в ней мысли принадлежат самому Достоевскому. Нельзя обманываться также и насчет содержания этих мыслей. Конечно это – не только критика католицизма, но выражение глубокого сомнения Достоевского в плодотворности исторической роли христианства вообще. Это – протест против одностороннего спиритуализма, протест против аскетической идеи. Это – постановка проблемы о дуализме или монизме человеческой природы.