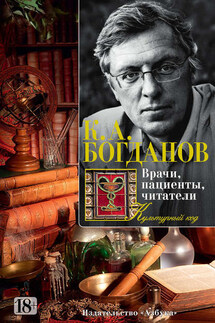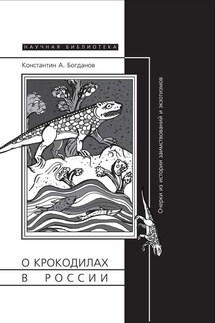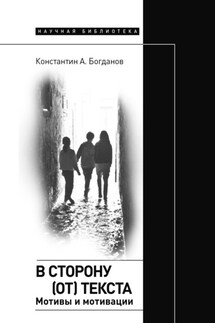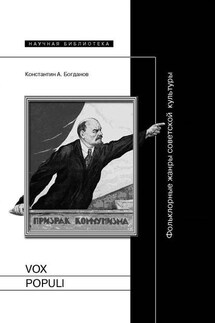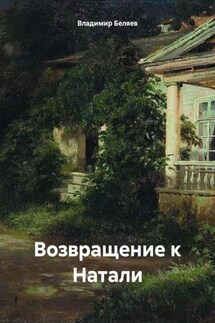В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации - страница 53
Записывая себя в «методологические» последователи Толстого, Латур и Гинзбург не упоминают отдельно о провиденциализме Толстого. Между тем уверенность в том, что история движется в предназначенном для нее русле Провидения, с одной стороны, осложняет разделяемый ими тезис о Толстом как авторе, делающем основной упор на значимость, казалось бы, несводимых друг к другу причин и следствий («связей, соединявших насморк Наполеона перед Бородинским сражением, диспозицию войск и жизнь всех участников сражения до самого незаметного солдата»)[272], а с другой – объясняет эту значимость тем проще, что подчиняет ее не логически доказательному, но вероучительному (само)наставлению. «Искусное переплетение слабых связей», принципиально определяющее, по Латуру, главные силы событий «Войны и мира»[273], с этой (моей) точки зрения, диктуется не стремлением Толстого к объяснению этих событий, а тем уроком, который мог бы быть из них извлечен. Если бахтинское обвинение Толстого в монологизме где-то и оправданно, так именно здесь: это не отсутствие диалога/диалогичности в текстах Толстого[274], а его подозрение (позднее переросшее в уверенность), что любой диалог – это не более чем слова, подменяющие знание истины. Говоря проще: монологичны не тексты Толстого, а сам Толстой.
В определенном смысле это внерациональный монолог – внутреннее понимание вещей, существующих вне и помимо слов. Так, еще в 1878 году в одном из писем к Страхову Толстой пояснял, как он понимает слова Сократа о собственном незнании:
Я говорю, что человек, который, как Сократ, говорит, что он ничего не знает, говорит только то, что на пути логического разумного знания ничего нельзя знать, а никак не то, что он ничего не знает[275].
«Сократовское» незнание самого Толстого о научной правде, в частности незнание единственно надежных методов лечения гидрофобии, обратимо к этической свободе и честности перед самим собою[276]. Парадоксом в этом случае является то, что возможная смерть от укуса в принципе оказывается релевантной неизбежности смерти как таковой, осознание которой возвышает человека над условностями и предрассудками общества. По воспоминаниям Е. М. Лопатиной (писательницы, выступавшей под псевдонимом К. Ельцева), известным в пересказе И. А. Бунина, она была свидетельницей важного в нашем контексте разговора Толстого с зоологом С. А. Усовым, состоявшегося в 1884 или 1885 году в доме графа Олсуфьева:
Поздоровавшись с графиней и со всеми прочими, он тотчас же обратился к профессору (естественнику) Усову:
– Я вот все хотел спросить вас, Сергей Алексеевич, правда ли, что если укусит бешеная собака, то человек наверное умрет через шесть недель?
Усов ответил:
– Бывает, что умирают через шесть недель, бывает, что через несколько месяцев и через год, а говорят, и через много лет. Но можно и совсем не умереть. Далеко не все укушенные умирают.
– Ах, как это жалко, – с упрямым оживлением сказал Толстой. – Мне ужасно нравилась мысль, что умирают, это удивительно хорошо. Укусит собака, и знаешь наверное, что через шесть недель непременно умрешь, и руби всем правду в глаза, делай, что хочешь… А вы наверное знаете, что это не так? – упрямо спрашивал он. <…>
У Олсуфьевых как раз в это лето был переполох: бегала бешеная собака. Собаку никак не могли поймать, – успокоились только тогда, когда, наконец, явился однажды урядник, и, вытянувшись и взяв под козырек, отрапортовал: «Имею честь доложить вашему сиятельству, что собака проследовала к станции Подсолнечной». А до того олсуфьевские мужики оставались совершенно равнодушны к собаке и не думали о том, чтобы поймать и убить ее.