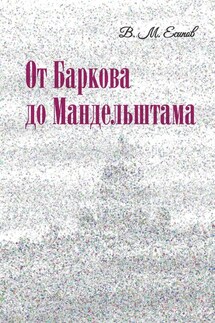Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные дистанции - страница 59
Сперва пели вроде как невсерьез. Даже как бы с некоторой насмешечкой. Но постепенно вошли во вкус, об иронии забыли и закончили весело, браво, я бы даже сказал – с полной душевной отдачей:
Потом спели «По долинам и по взгорьям»:
Потом – «Каховку». Потом – «Орленка»[46]. Потом – совсем грустную, но тоже любимую:
И надо было видеть, какой кайф (невольно перешел на аксеновскую лексику) получал от всего этого Вася. Он просто млел от наслаждения.
Это так меня удивило, что я, помнится, даже не удержался и, воспользовавшись короткой паузой, спросил: неужели он и в самом деле сохранил в душе любовь к этим старым песням?
Закрыв глаза и покачивая головой («нет-нет», как Ван Клиберн за роялем), он ответил одним словом:
– Обожаю!
На другой день после этой нашей речной прогулки мы втроем (Аксенов, Войнович и я) выступали перед большой аудиторией жителей города Самары. Зал был полон. И градус интереса к двум звездам, вернувшимся из изгнания на родину, был высок. Их не только слушали, затаив дыхание, но и засыпали вопросами, записками.
В одной из записок у Войновича спросили, где ему было жить комфортнее: в Германии или в Америке.
Он ответил, что Германия для него была хороша тем, что от нее – ближе к дому, к России. А Америка уж больно далека. Но у нее – другое преимущество. Это – страна эмигрантов.
– В Германии я постоянно чувствовал и чувствую себя чужаком, иностранцем, – сказал он. – А в Америку только приехал и уже через три месяца почувствовал себя без пяти минут американцем.
И тут Вася усмехнулся и сказал:
– Вот так ты проживешь там год, два, десять, двадцать лет, – и все будешь чувствовать себя без пяти минут американцем.
Евгения Гинзбург
(Из путевых записей 1976 г.)[47]
18/8
Выезжаем с Белорусского. Вагон непредвиденно оказывается очень неудобным. Узенькое, как пенал, купе. Вагона-ресторана нет. Так что роскошная жизнь не начинается с дороги. Ночью не уснула совсем из-за перевозбуждения последних дней.
19/8
С утра – Брест. Проверка паспортов, таможенный осмотр. Таможенница – девица типа Галины Борисовны[48] – особенно не придирается, в чемоданы не лезет.
– Наркотики везете? Литературу? Золото? Как нет, а это что? – зорко уловила цепочку под блузкой…
В Бресте поезд долго переформировывается. И вот свершилось: впервые за долгую мою жизнь я пересекаю границу любезного отечества.
Польша. Полузабытое видение: крестьянин, идущий за плугом, личные участки обработанной земли. Польша вся плоская, ни пригорочка. И большая. Гораздо просторнее, чем думалось.
Польские пограничники и таможенники ничем не отличаются от наших, – и приемы работы и даже язык (русский).
Уже в темноте подъезжаем к ГДР. Поражает безлюдность и неосвещенность городов. Но и сам Восточный Берлин долго тонет в непроглядной тьме – до тех пор, когда светлым островком не предстанет перед нами Александерплац. Но даже и на этом островке свет какой-то мертвенный. И полное безлюдье в десять часов вечера. На остановке видим станцию Штадтбана