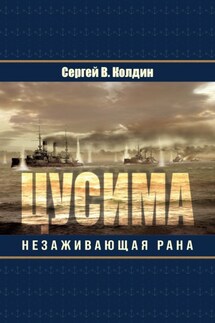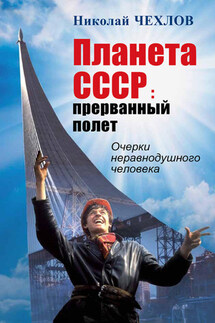Великая Октябрьская катастрофа 1917-1921 - страница 2
В 1905 году Французский генеральный штаб сделал оценки будущего главных европейских держав, и, согласно этим расчетам, Россия к 1950 году должна была стать самой сильной державой в Европе. Россия по индустриальному уровню развития занимала пятое место после Соединенных Штатов, Германии, Великобритании и Франции. Россия имела очень быстрые темпы роста производства – около восьми процентов в год. В одном Петербурге было более ста заводов, причем самых современных, о которых сейчас мало кто знает, например «Вестингхаус», американская компания, «Сименс-Шуккерт», германская электрическая компания, «Рено», французская автомобильная компания. Более того, германцы опасались, что в недалеком будущем Россия опередит Германию, и именно эти опасения создавали условия, способствующие стремлению Германии действовать «пока не поздно».
По многим показателям общественного развития в первые 15 лет двадцатого века Россия достигла огромных успехов. Процент грамотности среди новобранцев в армию достигал 80 %. Бюджет Министерства образования показывал колоссальные затраты на народное образование. Согласно государственному отчету на 1911 год: «Достижение здесь, в недалеком будущем, общедоступности начального обучения можно считать обеспеченным»[2].
Строительство железных дорог испытывало непрекращающийся подъем. Рабочие не были революционным классом, на который так надеялся Ленин. Помимо Петербурга и Москвы, они работали в индустриальных городах на Урале, где основополагающий завод производил металлоизделия, оружие, и там рабочие составляли большинство населения. У рабочих были свои приусадебные участки, они жили довольно хорошо, у них никакого революционного потенциала не было.
Что касается крестьян, то доля их собственности на землю по сравнению с долей помещиков постоянно росла. Крестьянское землевладение удвоилось с 1877 по 1905 год. За последующие восемь лет крестьяне выкупили еще девять миллионов десятин[3].
К 1915 году крестьянские кооперативы скупили большую часть помещичьих земель, и их число выросло с 1600 в 1902 году до 35 000 в 1915 году[4]. Проблема русского крестьянства была не в помещичьем землевладении, а в перенаселенности центральных губерний и относительно отсталом земледелии. С каждым переделом земли у крестьян становилось меньше земли на семью. Эту проблему можно было решать двояким путем – либо путем исхода излишней рабочей силы в города на работы, либо переселением в другие регионы страны. Столыпинская реформа работала. Нельзя сказать, что проблемы сельского хозяйства были неразрешимы. Правильная аграрная политика могла бы привести к тому, что крестьяне получили бы достаточно земли, научились бы вести сельское хозяйство современным способом, переселялись бы в Сибирь, на огромные неосвоенные территории, и могло все быть решено мирным путем без взрыва, который таки произошел.
В области интеллектуальных течений и политических предпочтений российское общество делилось, как и ранее, на два основных направления – западническое и славянофильское. Славянофильское направление было связано с идеей самобытности российского пути развития, с идеей православия, народности, почвенничества (по словам Достоевского). Такое мировоззрение опасалось тенденций упадка нравственности, как на Западе, упадка моральных ценностей, духа наживы и погони за прибылями. Вслед за Достоевским, Толстой призывал к опрощению, к жизни в деревне, к простым и чистым моральным ценностям русского народа. Консервативные славянофильские идеи стали весьма популярны в царствование Александра Третьего, что, в частности, выразилось во всплеске интереса к допетровской России, к ее образу жизни и даже архитектуре. Недаром Спас на Крови в Петербурге был построен на месте убийства террористами Александра Второго в стиле церкви Василия Блаженного.