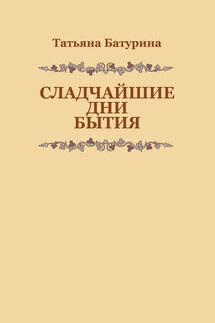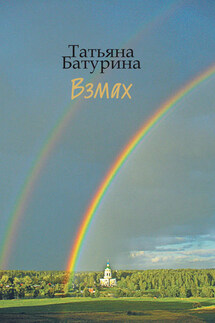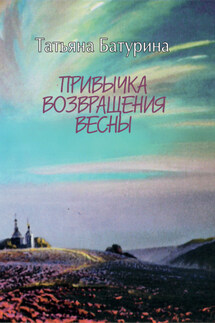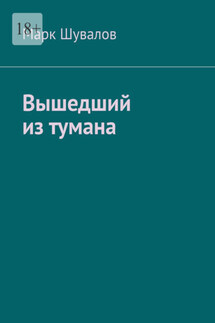Вериги любви - страница 33
А тут и тайна праздника раскрывается. От исписанных, черканых-перечерканых воспоминаниями черновых листов исходит слабый аромат: цветов ли, трав ли, малины-смородины ли, а может, и ладан-винограда… Еще не веря, подношу черновики к лицу – благоухают! И никакой метафоры, никакого преувеличения: запах до того настоящий, что ощущаю каждую его струинку. Так в нечаянно составленном и оттого еще более прекрасном букете тонко чувствуется нектар каждого цветка. Может быть, в лиственном гербарии черновиков благоухают воспоминания самой природы, сохраняющей себя в моем сочинении среди цветов, трав, деревьев – рядом с родными людьми?
На празднование 60-летия Победы в Волгоград среди прочих гостей приехала московская поэтесса Людмила Шикина, теперь уже лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград». Эту премию мы получали вместе: Людмила Шикина, волгоградский поэт и мой друг Владимир Мавродиев и я. После приема у губернатора я повезла Людмилу в Пятиморск-на-Дону, где 2 февраля 1943 года победно завершилась Сталинградская битва.
Машина миновала центр Волгограда, покатила по зацарицынским улицам, повернула к Казанскому собору и двинулась через Яблочный поселок к повороту на ростовско-калачевскую трассу.
– Где это мы? – полюбопытствовала гостья.
– На Дар-Горе, скоро дом родительский проезжать будем.
– Дар-Гора? Отличное название для книги!
Надо же, а я и не замечала. С десятилетнего возраста жила здесь, столько событий житейских связано с Дар-Горой! А вот книгу сочинить ума не хватило.
Между тем о Дар-Горе написано много, история поселения и трагична, и радостна одновременно – по-русски. Место это высокое, а поскольку дареное, то и назвалась слобода естественно и просто: Дар-Горой. Кто же и кому подарил благодатную землю? Именно благодатную, плодородную, в которую палку сухую воткнешь – и та зацветет. А история такова.
В 1901 году в Царицыне случился большой пожар – может быть, самый страшный за всю историю города. Начался он с Волги, с деревянной барки-беляны, груженной лесом и смолою, вмиг перекинулся на другие суда, на береговые склады – и запылал город, вся Зацарицынская слобода почти полностью выгорела.
Обездоленных погорельцев своей державной милостью одарил Николай II, пожаловавший 10 000 рублей из царской казны на восстановление сгоревших улиц и застройку ближнегородских, то есть окраинных, земель.
Молодой газетный репортер, будущий замечательный русский писатель Александр Куприн рассказывал в очерке «Царицынское пожарище»: «Только по огромности опустевшей площади можно судить о небывалых размерах пожара. Сгорело все до последней соринки».
И в этот же год в жизни Царицына произошло великое событие: был заложен памятный камень на месте будущего строительства кафедрального собора Александра Невского. Теперь, спустя столетие, можно по-всякому комментировать оба события, но внутренне не выглядит ли эта история следующим образом: пожар явился великим испытанием для царицан, а закладка православного собора дана была Господом как надежда и помощь в преодолении этого испытания? Отстраивался после пожарища город, и, несмотря на нужду, горожане, в том числе и погорельцы, жертвовали на строительство храма.
К 1918 году, когда состоялось его освящение, следы страшного пожара 1901 года да еще двух, поменьше, случившихся в 1902 и 1903 годах, поросли травой забвения: Царицын размахнулся и вдоль Волги, и вширь. Эта уходящая вдаль степная ширь была отдана погорельцам на поселение. Так явилась миру Дар-Гора, обитатели которой вскоре прозвали ее солнечной, а дальние ее слободки – Яблочной, Садовой, Сосновой.