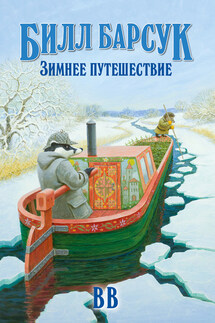Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» - страница 3
Наука пока не предложила убедительной альтернативы этим формам знания. Дело в том, что применение рутинных методов анализа письменных свидетельств не дает положительного эффекта для выявления групповой солидарности в России XVIII в. Их низкая производительность порождена спецификой исследуемого культурного пространства, для которого характерны либо отсутствие, либо семантическая многозначность русскоязычных терминов и символов, выделяющих человеческие общности[16].
В Западной Европе до эпохи Просвещения термины «народ» и «нация» применялись преимущественно к неевропейцам. Они допускали описание человеческого разнообразия без использования каких-либо классификаций и схем развития. Писатели-путешественники раннего Нового времени не испытывали потребности в различении неевропейского мира, представляя его жителей как некое нераздельное «бесконечное множество» наций Африки и Америки. К XVIII в. западный концепт «нация» начал отделяться от «этничности». Он стал увязываться с культурными качествами, отсутствующими вне Европы. Тогда же идея расы дала основания для разделения людей по «природе», что низвело различия между неевропейцами до уровня тривиальности. А слово «племя» обрело коннотации априорной ущербности[17]. Однако пришедшие в Россию вместе с иностранными специалистами и переводной литературой европейские термины в XVIII в. еще не получили однозначного признания в речи отечественных элит. Слова «народ», «народность», «нация», «Россия» использовались в столь вариативных значениях, что не позволяют заподозрить наличие твердых соглашений по этому поводу. В силу этого оказываются неплодотворными розыски в письменных источниках свидетельств отрефлексированного чувства единства.
Кроме того, исследовательская ситуация для русиста осложнена слабостью в XVIII в. публицистического дискурса и фрагментарностью массовой культуры, а также тем обстоятельством, что лишь определенный сегмент населения был открыт интеллектуальному импорту идей, текстов и образа жизни, тогда как значительная часть жителей страны оставалась к ним невосприимчивой[18]. Если добавить к этому неплотность административной сети[19], недооформленность сословных групп[20], пористость границ между локальными общностями[21], неразвитость гражданских образований, то вовсе не простой оказывается задача выяснить, по какому наитию из этой, по метафорическому выражению Петра I, «рассыпной храмины»[22] выросло у современников видение империи как логичной конструкции, иерархии социальных слоев и этнических групп, накрытой «русским покрывалом».
Попытавшись разделить решение проблемы на стадии, я столкнулась с целой группой неразработанных сюжетов и открытых методологических вопросов. Что заставляло людей задумываться над категориями «народ», «нация», «империя» в реалиях XVIII – начала XIX в.? Какие метафоры и политические практики были задействованы при формировании российских идентичностей и имперской самости? Что делало человека «русским» или «нерусским» в Российской империи? Были ли, и если да, то где проходили границы между русской нацией и русской этничностью? Каково место в этом процессе воображения и чувств, письма и рисунка? Собственно, в этом «идентификационном» поле и ведется исследование, результаты которого я излагаю в данной книге.
Еще одним стимулом для обращения к «технологическим аспектам» этнического и национального воображения послужило для меня нынешнее состояние культуры. По всей видимости, современный человек является продуктом не столько литературного, сколько визуального творчества. Учет элитами разных стран данного обстоятельства приводит к тому, что национальная политика и деконструкция национального сознания становятся все более тесно связанными со зрительными ресурсами