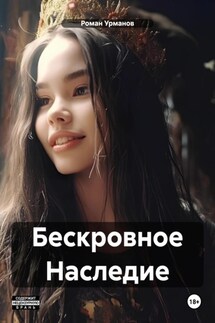Внучка берендеева. Летняя практика - страница 13
- Должен. Молодой еще… повезло… свою кровь…
…кровью в темноте пахло, терпко и сладко, и запах этот вызывал странное желание в него завернуться, словно в пушистую старую шаль.
Кровью и поили.
И ложечки.
Не человеческой, само собою, но бычьей…
- А что девчонки? С ними… как?
- Кто ж знает, матушка, - второй голос сух и неприятен, колюч. – Магии в них нет. И вообще… а что норов скверный, так у кого из дочек боярских он сахар?
- Ты мне скажи лучше, что с ними делать?
Тишина, звонкая, что зимний лед. И длится она долго, Илья почти успевает очнуться, прикоснуться к этой самой благословенной тишине, когда скрипучий голос вновь ее нарушает.
- Вы знаете, что делать.
- Дети же горькие…
- Может, еще да… а может, уже нет. Божиня не осудит…
- А люди?
- Вам ли людей страшиться? Поймите, оставите их и… что потом? Мы не знаем, удалось ли мальчишке полностью изгнать тварей. А если нет? Если они затаятся? На год? На два? А потом?
Вздох.
И снова тишина. Темнота отступает. Прорезают ее розовые всполохи грядущего рассвета. Белизна потолка. И робкое пламя свечей. Когда Илья открывает глаза – а веки тяжелы, что свинцом запечатаны – он сначала не видит ничего, кроме этого пламени, которое само по себе прекрасно.
- Здраве будь, племянничек… - дядя Михаил сидел у постели, в креслице низком. – Выжил-таки…
- Выжил. А…
- И матушка твоя жива. В обители она…
И замолчал.
Стар он стал. Иссох весь… а ведь маг. Маги старятся медленней обычных смертных.
- Она…
…в обители. И в какой – не скажут. Илья не ребенок, понимает, что, коль ушла от мира, то и от него, Ильи, ушла…
- Таково было ее собственное желание, Ильюша. И не мне ее останавливать. Душа ее крепко измучена. Кровит вся. И покой ей надобен едва не больше, чем тебе…
- А…
- И сестриц бы твоих в монастырь отправить.
- Или сразу в могилу?
- Слышал, значит? – дядюшка не стал притворяться, будто бы не понимает, о чем речь. – Хорошо. Значит, не придется врать, очень я этого не люблю. Что ж, самое бы верное было их в могилу отправить. Оно, может, и жестоко, да порой и жестокость – милосердие. Твари, которые в них вселились, с душой сливаются, под себя ее меняя. А когда переменят, то рождается еще одна тварь, которая новое тело ищет.
- Я их…
- Изгнал? Может, и так. А может, и нет.
В дядиной руке появились нефритовые четки. Илья хорошо их знал, из белого камня резаные, они были с дядюшкой всегда. Задумавшись, он перебирал бусины, когда осторожно, так, чтоб одна другой не коснулась, а когда и быстро, и тогда бусины сталкивались, издавая сухой неприятный звук.
- Видишь ли, Ильюша… если твари ушли, то сестры твои все одно останутся ущербными. Сколько они душожорок носили? Не один день. Да и не один месяц… после такого никто прежним не останется.
- И что?
Сухо было во рту.
- А то, что не одну, так другую гадость подцепят… вот… а если не ушли, если затаились? Ты готов взять на себя ответственность не за сестер, а за других людей, которых они изведут?
- Готов!
Илья с трудом, но сел.
Огляделся.
Махонькая комнатка, не комнатка даже – иная конура просторней будет. Окон нет. Потолок низенький. На полу шкура запыленная медвежья кинута, у самое кровати. Вот кровать хороша, из дуба резана, перин навалено – утонуть недолго.
- Не горячись. Решение принято, и каким бы ни было…
Он слегка поморщился.
- Она тоже жалостлива сделалась. А может, свой резон имеется? Оставят их. Здесь, в тереме царском оставят. Под ее присмотром. Объявлено пока, что приболели девушки…