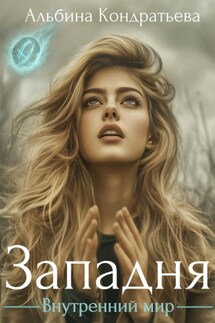Внутренний мир. Западня - страница 28
Единственное, чего не было ни в Договирске, ни во всём Ардхоне – автомобилей на бензине. Нефть здесь не добывали, хотя активно пользовались другими природными ресурсами. Экология волновала жителей Внутреннего мира не в последнюю очередь, поэтому сгораемое топливо было категорически запрещено. На дорогах можно было встретить разве что электрокары или авторапиды. Это изобретение выглядело как обычная машина, но работало по принципу скоростного велосипеда: водитель поочерёдно давил на педали, а механизм за счёт системы рычагов разгонял машину до 50 км/ч.
Во всём же остальном города Ардхона ничем не отличались от городов Внешнего мира. Каждая страна впитывала культуру того народа, с которым граничила через пространственную пелену. Валдария не была исключением: русское деревянное зодчество, православные храмы, монументальные советские постройки можно было встретить в любом регионе. Разве что эльфы предпочитали в архитектуре стили эпохи Возрождения, жители Российской Республики старались идти в ногу со временем и непрестанно модернизировали свои города. Вампирские улицы напоминали аккуратные и функциональные купеческие кварталы, и лишь в Коммуне вы могли встретить многоподъездные панельки с завалами неубранного снега и развороченными мусорными баками вместо детской площадки. В Валдарии шутили, что суровый климат земель Коммуны и нелёгкие трудовые будни оборотней делали их самыми «русскими» из всех видов. Справедливости ради нужно отметить, что жили оборотни далеко не бедно. Именно на их территории располагались самые богатые залежи металлов и минералов. И именно там брал начало «Газовый конгломерат» – крупнейшая компания Валдарии, обеспечивающая газом практически всю Европу.
Что же касается Договирска, то он, как центр всех четырёх культур народов Валдарии, впитал лучшее, что было у них. В частности, центр города, куда и прибыл Герман Алемский, поражал монументальностью и размахом архитектуры. Старинные каменные здания, казалось, соревновались в роскоши лепнин и оригинальности узора на решётках балконов. Широкий тротуар был выложен идеально подобранными друг к другу необработанными камнями. Между фонарными столбами растягивались арки из живых вечнозелёных растений. Многочисленные фонтаны соединялись целой системой желобков, вода из одного перетекала в другой, создавая впечатление, что ты идёшь по сказочному парку, которому нет конца и края. А вдалеке виднелся наземный участок метро под прозрачным куполом, нависающий над кварталами, как огромная игрушечная железная дорога, забытая ребёнком-великаном.
Герман прошёл мимо здания суда и мэрии и оказался на одной из небольших площадей. Фонтана здесь не было, зато высился памятник Советскому Солдату – как вечная память о тысячах добровольцах Валдарии, погибших во Второй мировой войне. Вопреки закону о невмешательстве в политику Внешнего мира они окольными путями добирались до русских городов и сражались бок о бок с советскими братьями. Герману понравился этот памятник, он напоминал ему о тех временах, когда он учился в начальной школе Саранска, пел на День Победы военные песни и слушал рассказы фронтовиков о страшных годах их молодости. Это так прочно врезалось ему в память, что Герману казалось неправильным не отмечать теперь 9 мая, оказавшись в Валдарии. Наличие памятника Советскому Солдату словно восстанавливало справедливость и успокаивало совесть Германа, воспитанного в ценностях постсоветского пространства.