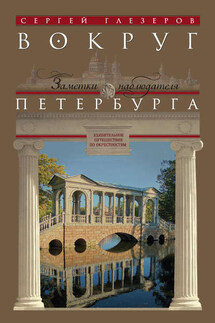Вокруг Петербурга. Заметки наблюдателя - страница 36
Не надо представлять наших предков в виде неграмотных, диких варваров, обутых в лапти, – кстати, в той же Ладоге была распространена кожаная обувь, это доказали наши раскопки. По нашим данным, ладожане были универсальными людьми – мастерами и купцами одновременно. Это был активный слой энергичных горожан. Мы чувствуем по этим раскопкам, что горожане были сообществом вольных мастеров, а Ладога – своеобразным вольным городом. И сельские жители тоже владели навыками ремесленного мастерства, а вовсе не были угнетенными пахарями – об этом тоже свидетельствуют раскопки».
В 2003 году, когда Петербург отмечал 300-летие, в Старой Ладоге не менее торжественно отпраздновали свое 1250-летие. В 2012 году, когда отмечалось 1150-летие зарождения русской государственности, Старую Ладогу снова поднимали на щит – как первый стольный град Древней Руси. И даже заложили камень на месте будущему памятнику князьям Рюрику и Вещему Олегу…
Незадолго до праздника русской государственности автору этих строк довелось побывать в Старой Ладоге. «Какая огромная радость – иметь возможность каждый день любоваться древней крепостью, которую раньше называли Рюриковой», – подумалось мне, и я задал тогдашнему заместителю директора по науке Староладожского музея-заповедника, доктору исторических наук Адриану Селину наивный вопрос: наверное, местных жителей переполняет гордость, что они живут в Старой Ладоге?
«Когда к ним приезжают гости – гордятся, а в обыденной жизни подобное соседство становится обузой, – остудил мой пыл Адриан Селин. – Ведь „жить на памятнике“ на самом деле очень обременительно. Чтобы проводить коммуникации, требуются специальные разрешения, строиться здесь вообще целая проблема – везде охранная зона».
«Большое видится на расстоянии, – всегда то, что далеко и недосягаемо, кажется прекрасным, а то, что видишь каждый день, становится не таким удивительным, – пояснила руководитель научно-просветительного отдела музея-заповедника Марина Орлова. – А потому становится обыденностью, когда люди, перекапывая свой огород, находят какую-нибудь бусинку или игольничек, которым многие сотни, а то и тысяча лет. Кто-то несет находку в музей, кто-то оставляет себе на память»…
Ныне Старая Ладога имеет статус сельского поселения. Население – около двух тысяч человек. Жители работают, в основном, в бывшем совхозе, есть небольшой цех по переработке молочной продукции. Занятость дают учреждения культуры, досуга, обслуживания, торговли. Активные люди себе работу находят, в том числе в ближайших городах – Новой Ладоге и Волхове. Музей тоже обеспечивает работой местных жителей: из 57 штатных сотрудников подавляющее большинство – ладожане.
«В летнюю пору нам очень трудно своими силами справиться с туристическим потоком, у нас острая нехватка экскурсоводов, – призналась Марина Орлова. – В штате всего один экскурсовод, вся остальная экскурсионная нагрузка ложится на плечи научных сотрудников, а также заведующих отделами. Внештатных экскурсоводов крайне мало – на сегодняшний день это два человека. Работа требует серьезной подготовки и не очень высоко оплачивается. Мы всегда приглашаем поработать в этом качестве студентов, старшеклассников, однако у них предложение энтузиазма не вызывает».
«Почему же Старая Ладога до сих пор остается объектом „местного значения“ и знают ее лишь в пределах Северо-Запада?» – задал я вопрос.