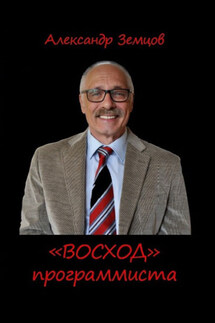«ВОСХОД» программиста - страница 2
Примерно через год посмотрев код этих функций, я сразу же обнаружил ошибку, но до того я все еще продолжал работать в подразделении технических средств защиты. Работа была бумажная, неинтересная и нудная.
Спустя несколько месяцев начались испытания первой очереди системы, которую разрабатывал (увы, без меня) мой НИИ по заказу самого Совета Министров СССР. Моя работа постепенно перешла в русло составления различных актов и протоколов испытаний, передаче их в секретное машбюро и получении их оттуда, а также в сборе подписей.
Надо сказать, что я всегда считал своим долгом работать максимально хорошо, поэтому даже на этой унылой стезе добился успехов: бумаги составлял быстро, подписывал еще быстрее, а благодаря симпатиям в машбюро печатал все что мне требовалось вне очереди.
Следуя простому здравому смыслу и аккуратности я, как оказалось, сильно отличался от основной массы сотрудников, особенно непрограммистов. Полагаю, что во многом это отличие заключалось в моем инфантилизме, то есть той непосредственности, что побуждает детей выполнять любую порученную им работу с энтузиазмом и доступной им исполнительностью, что во взрослой жизни иногда приводит к таким неожиданным результатам.
Да и что особенного, сам по себе совсем не особенный и где-то даже лентяй и разгильдяй, я делал? Просто старался более или менее аккуратно и разумно делать то, что приходилось. Считается, что время застоя наступило в нашей стране намного позже описываемых событий, в 80-е. Однако уже и тогда многие следовали принципам: «работа не волк, в лес не убежит», «никогда не делай сегодня того, что можно сделать завтра», «не спеши исполнять – распоряжение могут и отменить» и т. д.
Таким образом, мои неожиданные успехи привели к казусу, весьма показательному для всего устройства жизни и работы в нашей стране. После ряда успешных действий на испытаниях системы мой непосредственный начальник вдруг спросил, действительно ли я такой усердный или притворяюсь. Тогда я надолго запомнил этот вопрос…
Еще один забавный и вместе с тем грустный момент. Заказчиком разрабатываемой системы был Совет Министров СССР, поэтому в нашем НИИ действовал строгий режим и пропускная система. Практически все документы были секретными. На входе у нас стояли вертушки с кабинами. Внутри кабин в ячейках лежали пропуска сотрудников. Только руководители отделов и выше имели пропуска, которые носили с собой. Остальные при входе должны были дернуть свою кнопку на кабине, после чего пропуск выпадал охраннику, который, сличив фотографию с оригиналом, открывал вертушку, пропуская таким образом сотрудника внутрь.
Кабины и вертушки охранялись прапорщиками с оружием. Этим прапорщикам было дано указание после начала рабочего дня пропуска не выдавать и вертушки не открывать. Таким образом, опоздавшие скапливались перед входом. Далее выходил работник отдела кадров и переписывал опоздавших. Списки передавались в подразделения с целью дальнейшего «депремирования» опоздавших сотрудников, о чем меня очень серьезно предупредили.
Пришлось заняться хронометражем пути до работы. Я точно просчитал, сколько времени мне потребуется, чтобы добраться до станции метро, в какое время я должен быть на пересадке, а в какое – на выходе. Приходилось бегать по эскалаторам метро и даже на улице – до здания института. И не мне одному! Однако пройдя проходную, запыхавшиеся сотрудники отправлялись… в курилку, в которой проводили первый час рабочего дня, обсуждая все что угодно, кроме работы.