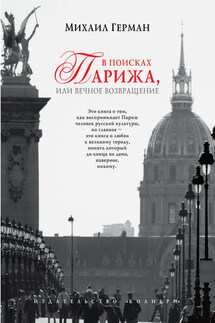Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - страница 24
Была масса военных игрушек. Помню совершенно особый кисловато-пороховой запах пистонов. Для некоторых особенно усовершенствованных револьверов они выпускались лентами. Даже деревянный игрушечный бронепоезд, о котором я мечтал очень долго, выпустила какая-то артель, словно прочитав открытку, адресованную мной Деду Морозу. В ней я просил подарить мне «игрушечный поезд, если есть». Совершенно тогдашнее магазинное – «если есть».
Самым счастливым довоенным днем рождения мне кажется тот, когда мне исполнилось шесть. В числе других замечательных вещей мне подарили игру «Три поросенка», со множеством разноцветных кирпичиков, фигурками Волка, Наф-Нафа, Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа. На любимом мною мамином диване мы все утро играли в поросят. День был солнечный, почти весенний (23 февраля), потом приехал отец на наемном «ЗИСе» светло-шоколадного цвета, меня посадили на переднее сиденье, и мы поехали – тогда казалось! – страшно далеко, на Пулковские высоты. Мне было несказанно хорошо – наверное, более всего от великолепного лимузина, его приборной доски, пластмассовой (того же цвета, что и машина, в отличие от обычных черных) круглой ручки рычага скоростей, работающего радио.
И вечер был прекрасный. Пришел, как всегда, отец (я просил его «не забыть надеть орден», и он не забыл), друзья родителей, которых я хотел видеть, подарки принесли разные (случалось, приносили одинаковые, я печалился и, пряча глаза, лицемерно благодарил). Мне дали поиграть в «сжигание кораблей». Это удовольствие разрешалось редко, поскольку сопровождалось феерической вонью и грязью: в таз наливалась вода, в нее пускались деревянные кораблики – старые игрушки или самоделки, на которые клалась вата с «Тройным» одеколоном. Вата поджигалась, затем ее тушили водой из детских резиновых груш-клистиров. Иногда в клистиры наливался одеколон, и тогда пиротехнический эффект получался ослепительным. По комнате летали черные хлопья, распространяя отвратительный запах жженого «Тройного» одеколона. Надо признаться, взрослые, поначалу всегда против этого зловонного занятия возражавшие, сами им увлекались. Это дело известное. Когда мне купили детскую электрическую железную дорогу, пока она еще работала, а работала она недолго, отец и его приятели меня к ней не подпускали – играли сами.
С бронепоездом. 1939
Потом я впервые в жизни отведал шампанского и долго не мог найти дверь в свою комнату.
И уже целую жизнь спустя я узнал, что в этот счастливейший день моей жизни, 23 февраля 1939 года, был расстрелян еще один знаменитый маршал Советского Союза – Александр Ильич Егоров… А тогда, в конце 1930-х, об этом мало думали (а те, кто думал, старались не говорить). Шла, иным казавшаяся необходимой, борьба «за чистоту рядов». Оставили в живых самых покорных и недалеких: Ворошилова и Буденного. Ворошилова даже возвеличивали: «ворошиловский залп» (залп, которым предполагалось накрыть и разгромить сразу всех врагов), «ворошиловский стрелок». Портреты Ворошилова были повсюду. Сталин справедливо полагал, что русский народ привык к начальнику в орденах и звездах. И на его фоне скромная трубка и мудрый взгляд только выиграют. Кто не помнит картину Александра Герасимова «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» 1938 года, прозванную «Два вождя после дождя»? Или знаменитую сцену из опубликованного годом раньше романа А. Толстого «Хлеб», в которой Сталин и Ворошилов бестрепетно прогуливаются под белогвардейскими пулями…