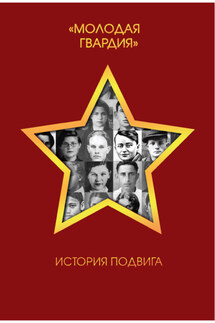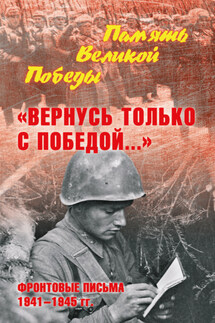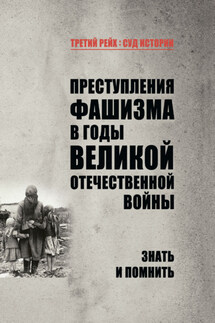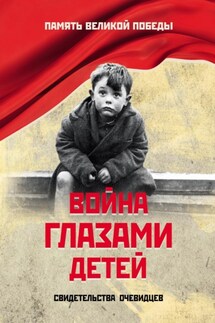Читать онлайн Нина Петрова - Война глазами детей. Свидетельства очевидцев
© РГАСПИ, 2024
© Петрова Н. К., предисловие, составление, комментарии, 2024
© ООО «Издательский дом „Вече“», 2024
Детям Советского Союза, страны, победившей фашизм, посвящается
Предисловие
В одной из своих статей академик Д. С. Лихачев писал, что «воспитывают человека не только семья, школа, коллектив. Незаметно для каждого из нас учителями становится прошлое, история»[1]. О Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне написано немало исследовательских работ, опубликовано документальных сборников материалов. Но можно смело сказать, что не все ещё сделано. Ряд проблем затронут, но до конца не изучен. Одной из таких тем являются дети Великой Отечественной войны, война глазами детей. Несмотря на то что на рубеже XX и в начале XXI века в свет вышло немалое количество сборников воспоминаний и архивных документов, в первую очередь подготовленных в регионах, эти проблемы ждут своих исследователей.
В 1966 г., готовя к изданию свое собрание сочинений, К. Симонов в первом томе поместил обращение к читателю, назвав его «Перед первой страницей». В нём есть такие слова: «Я глубоко убежден, что в книгах, изображающих историю нашего общества, будет рассказана вся правда о всех сторонах нашей жизни в разные эпохи… Это необходимо для нормального развития нашего общества, и это, безусловно, будет сделано…»[2]
Обращение и изучение прошлого – это не только закономерная связь настоящего с прошлым Родины, это необходимо для понимания настоящего и прогнозирования будущего. При этом нужен объективный и всесторонний анализ событий, не простой, личностный их пересмотр, переоценка, а документальное, всестороннее их освещение. Отмечая неоспоримую ценность публикаций, основанных на документальных рассказах тех, чье детство прошло на фронте, в партизанском отряде, на заводе или колхозном поле, настоящее время требует обратиться к ранее закрытым документам архивов для объективного раскрытия проблем.
Говоря о Великой Отечественной войне, отдавая дань военному и трудовому подвигу нашего народа, мы долгое время умалчивали обо всех трудностях 1941–1945 гг. А если и говорили, то это касалось тягот военных лет. С начала 90-х гг. прошлого века проявилась другая тенденция: перечеркивание героического прошлого и поиск, выпячивание, можно сказать, утрирование в ряде случаев просчетов и ошибок, допущенных как на полях сражений, так и в работе тыла. Между тем дети Великой Отечественной войны, их судьбы оставались вне поля зрения исследователей.
В предисловии к сборнику «Дети и война», который готовился к изданию в 1916 г., А. М. Горький писал: «Дети – это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний, это люди, которые идут в мире на великую работу строительства новых форм жизни». Анализируя обстановку, в которой воспитываются дети, Горький писал, что «их отношение друг к другу, к человеку, миру складываются во время войны, когда одни дети играют с трупами, другие вместе с взрослыми принимают непосредственное участие в войне… и мне кажется, что нам, взрослым… следует знать, как мыслят дети о войне…»[3].
За время Отечественной войны был собран обширный и разнообразный материал о жизни детей в годы войны, который позволяет раскрыть те изменения, которые внесла война в психологию детей и восприятие ими мира. В 1944 г. Союз писателей СССР обратился к секретарям ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлову и О. П. Мишаковой с предложением подготовить большой документальный сборник «Дети в Отечественной войне» и издать его в 1944 г. в одном из издательстве: «Молодая гвардия» или «Детгизе». Предисловие предполагалось поручить написать А. Н. Толстому или С. Я. Маршаку[4]. К сожалению, очень интересная идея оказалась не реализованной в том объеме, как намечалось, и архивные документы ждут своей публикации.
4 часа утра 22 июня 1941 г. – это рубеж, от которого начался отсчёт 1418 дней Великой Отечественной войны. Начиная с этого времени одной из главных проблем общества, государства стала забота о детях: сохранить, вырастить, воспитать и обучить. В этом направлении велась работа на всех уровнях власти, всеми общественными организациями и средствами массовой информации.
В условиях стремительного наступления противника, огромных людских потерь, паники среди гражданского (в первую очередь) населения остро стоял вопрос оказания помощи сотням тысяч детей. В первую очередь велась работа по эвакуации. На учёт брались дети, родители которых ушли на фронт или поступили на работу. В тяжелейших условиях военного времени велась эвакуация детских домов из прифронтовой полосы и угрожаемых районов. При этом велась работа по выявлению отставших от эшелонов ребят.
Дети вывозились в тыл железнодорожным, в отдельных случаях автогужевым или водным транспортом. Редко, но были случаи эвакуации пешим ходом[5]. За период с 22 июня 1941 г. и весь 1942 г. было вывезено 976 детских домов с 107 223 воспитанниками. До войны в стране были детские дома дошкольные, школьные и так называемые смешанные детские дома (для детей-родственников различного возраста). С начала войны с территории Украины вывезли 257 детдомов, с территории Белоруссии – 132 детдома. Они в основном были размещены в республиках Средней Азии. На Урале, в Подмосковье и других областях работали детдома для детей Прибалтики[6].
В тыл были вывезены десятки тысяч осиротевших или утративших связь с семьей детей. Справедливо говорят, что у войны разные лица: жестокое и милосердное, живое и мёртвое, но самое трагичное – это детское. Именно дети, как самая уязвимая часть населения, оказались в первую очередь жертвами военного лихолетья. Число сирот, оставшихся к тому же без крыши над головой, росло быстрее, чем возможности приюта в других семьях, детских домах, специальных ремесленных, суворовских и нахимовских училищах, домах ребёнка, детских приемниках-распределителях.
23 января 1943 г. было принято постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», наметившее комплекс мер по предупреждению детской безнадзорности. При СНК союзных и автономных республик, исполкомах местных Советов депутатов трудящихся были созданы комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, была расширена сеть детских приёмников-распределителей. При органах НКВД работали справочные столы для розыска детей. Дети до 3 лет направлялись в дошкольные учреждения или передавались в семьи трудящихся на патронирование.
В годы войны были созданы новые учреждения общественного воспитания – школьные интернаты, возникли общественные организации шефства над детскими домами – попечительские советы. Было открыто свыше 400 колхозных детских домов. Из детских домов и приёмников-распределителей на воспитание в семьи трудящихся только в РСФСР к 1945 г. было взято 308 тыс. детей[7].
За годы войны ассигнования на детские дома и мероприятия по охране детства составили в РСФСР 16 % всех средств, выделенных на народное образование.
Для детей воинов Советской Армии и партизан с 1943 г. создавались специальные детские дома. В 1945 г. их действовало 120, где находилось 17,2 тыс. чел. Имелись также детские дома для иностранных детей: в Узбекистане находились 23 польских детских дома (свыше 1900 человек) и дом испанской молодёжи. Польские детские дома размещались также в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. При детских домах имелись подсобные хозяйства, оборудовались столярные, слесарные, швейные и другие мастерские. Профессиональная подготовка воспитанников, достигших 14 лет, велась главным образом в системе трудовых резервов и через производственное ученичество.
За этими сухими и верными фактами шла «вторая» жизнь.
Несмотря на то что забота об эвакуированных детях была в поле зрения государственных и общественных организаций, а также партийных и комсомольских руководителей, далеко не всё было безупречно в этой работе. В записке секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Андрееву от 22 ноября 1941 г. секретарь ЦК ВЛКСМ О. П. Мишакова сообщала о тех безобразиях, которые сама наблюдала в течение двух месяцев в детских домах Сталинградской области. О. П. Мишакова была женщиной несентиментальной, жёсткой. Её записка в ЦК ВКП (б) оставляет тяжелое впечатление о действительности того времени. Оно лишено лакировки «заботы о детях». Привожу его почти полностью. Публикуется оно впервые[8].
«Трудное время настало для наших детей. Много детей страдает. Тяжело смотреть на их страдания. И особенно тяжело потому, что в значительной степени могли бы облегчить положение многих ребят. Но, к сожалению, у нас сейчас нет такой авторитетной организации, которая бы занималась непосредственно оказанием помощи детям. Отделы народного образования, комсомол мало заботятся о детях. Да, ряд вопросов они сами не в состоянии решить, как то: вопросы питания, одежды, помещения. Местные исполкомы зачастую идут по пути наименьшего сопротивления и отбирают помещения в первую очередь школ и детских учреждений.
…[В Сталинградской области. – Н.П.] …питанием проезжающих эвакуированных малолетних детей, кормящих матерей никто не занимается. Дети едут голодные, болеют… Всё это происходит потому, что наши партийные и особенно комсомольские руководители считают для себя низким заниматься, по их мнению, „вопросами питания детей“».
Особенно горькая картина предстает из письма О. П. Мишаковой об эвакуированных детях из Калачёвского детского дома:
«У них не было даже смены белья. 100 человек восьмилетних ребят разутых и раздетых вели в мороз по городу на пароход. В детских домах эвакуированных детей развелось много прихлебателей, которые объедают и обижают наших детей. Эти люди лучшее питание, помещения забирают для себя. Эти люди никакого отношения не имеют к детскому дому. Часть из них заделалась воспитателями. Часто эти воспитатели везут всю свою семью, родных и знакомых, питают их за счет детей, размещают в д/домах. Эти люди преступно относятся к детям. Мне пришлось быть на пароходе „Красный Профинтерн“, который перевозил из Сталинградской области в Энгельс несколько детских домов с эвакуированными ребятами. На этом пароходе мы обнаружили следующее: большинство лучших, тёплых кают было занято взрослыми людьми из обслуживающего персонала, их родных и знакомых, а восьмилетние, разутые и раздетые дети находились в проходах и холодных коридорах.
…Мы предлагаем создать авторитетный центр, областные детские комиссии по оказанию помощи детям».
Откровения такого рода исследователям встречаются не очень часто, но они дополняют картину, восстанавливают в деталях то, о чем слышали, но не читали сами и не хотели верить, что все это было в действительности.
Надо полагать, что это письмо не осталось без внимания. 3 декабря 1941 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «О фактах пренебрежительно-бюрократического отношения комсомольских организаций к эвакуированным детям». Многочисленные факты пренебрежительно-бюрократического отношения к эвакуированным детям, о которых было известно на местах от райкома до ЦК комсомола союзных республик и с которыми они примирились, стали известны руководству ЦК ВЛКСМ. Последовала немедленная реакция. Центральный Комитет ВЛКСМ назвал это отношение к детям «совершенно нетерпимым» и потребовал, чтобы «комсомольские организации взяли в свои руки дело обслуживания эвакуированных детей»