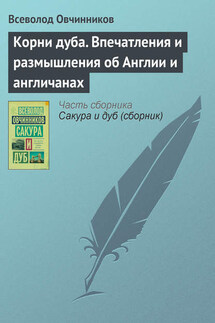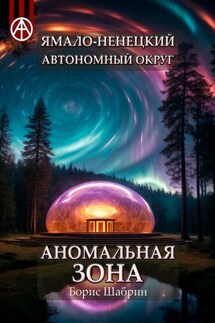Вознесение в Шамбалу. Своими глазами. - страница 41
Возглавляет университет 45-летний Цеван Цзигме. Самый молодой в Китае ректор происходит из знатного тибетского рода. В 50-х годах его отец возглавлял канцелярию далай-ламы в Пекине. Цеван окончил там четыре класса начальной школы и вернулся домой как раз во время моего первого приезда в Лхасу. Знание китайского языка, обретенное в детстве, побудило юношу поступить в Пекинский педагогический институт. Окончила его и будущая жена Цевана. Теперь она преподает на филологическом факультете.
– Мы, – говорит ректор, – стремимся воспитать людей, способных сохранить традиционную национальную культуру Тибета в широком смысле слова, что включает литературу и искусство, философию и этику. Особенность тибетской культуры состоит в том, что единственной формой ее проявления веками была религия. Очагами учености служили монастыри. Интеллигенцию составляли ламы. Как и в средневековой Европе, религия монополизировала все средства художественного самовыражения. Но культура при этом была не общим достоянием, а уделом меньшинства. Именно это мы хотим изменить. Но непременно сохранить все ценное, что было создано ламаизмом и составляет нашу самобытность.
В университете есть факультет тибетского искусства. Там читают лекции и ведут семинары известные богословы из монастырей Дрепан, Сера, Ганден. Духовенство оказывает помощь при изучении тибетской архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Перед факультетом открылась возможность закрепить эти знания на практике. Государственный Совет КНР выделил средства на реставрацию дворца Потала. Работы велись под наблюдением специалистов и при активном участии студентов университета.
– Мы стремимся к тому, – говорит Цеван Цзигме, – чтобы наши выпускники овладели всеми богатствами тибетской культуры, но не замыкались в ней, а развивали традиции своего народа как часть многонациональной культуры Китая, общечеловеческой цивилизации.
Вернется ли далай-лама?
После мятежа 1959 года были наказаны лишь его главные зачинщики. Отбыв срок, они получили назад свои дома и другое конфискованное имущество, кроме земель и скота. Вернулись на родину и многие из тех, кто ее покинул. Республика готова принять и остальных, не вспоминая об их прошлом.
Какова же позиция Пекина в отношении далай-ламы?
– Мы по-прежнему относимся к нему с уважением, – сказали мне в правительственном комитете по делам национальностей. – Готовы предоставить ему высокий государственный пост, например заместителя председателя Всекитайского собрания народных представителей. Приветствовали бы его возвращение на родину. Но при единственном условии: далай-лама должен отказаться от сепаратистских призывов к «независимому Тибету».
Китай настороженно относится к тому, что, признавая компетенцию Пекина в вопросах внешней политики и обороны, далай-лама выступает за самостоятельность законодательной, исполнительной и судебной власти в автономном районе. Тибет, по его словам, должен стать «самоуправляемой демократической политической единицей, находящейся в ассоциации с Китайской Народной Республикой».
Пекин усматривает в слове «ассоциация» притязания на нечто большее, нежели районная Национальная автономия в рамках КНР. Для сомнений есть основания. И тем не менее возможность компромисса, по-моему, существует. Основой его могло бы послужить Соглашение 1951 года о мирном освобождении Тибета. Ведь, соглашаясь сохранять в ведении Пекина внешнюю политику и оборону, далай-лама тем самым рассматривает Тибет как составную часть Китая. Стало быть, нужно договориться лишь о конкретном содержании термина «самоуправление». Тибетский народ не захочет возврата к феодальным порядкам. Но велика ли беда, если конкретные формы местной власти в Тибете будут иными, чем в других частях страны? Ведь для Гонконга и Тайваня оказалась приемлемой даже формула «одно государство – две системы».