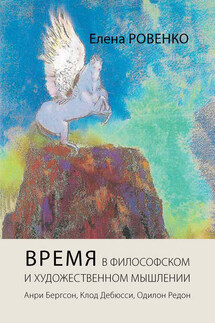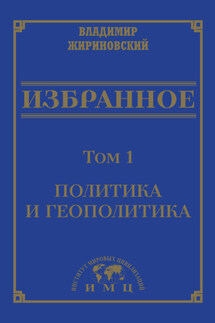Время в философском и художественном мышлении. Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон - страница 49
В среде философов и ученых разных направлений сложились две диаметрально противоположные точки зрения на бергсоновскую методологию. С одной стороны, это признание, иногда восторженное, за Бергсоном привилегии создателя нового метода познания. С другой стороны, это неприятие, принимающее зачастую весьма резкие формы и ведущее к обвинениям Бергсона в спекулятивности и непоследовательности. И поскольку сам философ заострял внимание на проблемах методологии, постольку предметом споров и критики служит прежде всего его метод. Критика же бывает иногда объективной, чаще же весьма пристрастной. Стало уже общим местом всесторонне характеризовать метод Бергсона в любом исследовании, посвящено ли оно сжатому пересказу основных положений бергсоновского учения или же представляет собой всестороннее изучение концепции философа. Таковы, в общем, все работы отечественных мыслителей – современников Бергсона; таковы и книги его французских учеников, последователей и оппонентов.
Еще при жизни Бергсона в защиту его учения и, в частности, методологии выступили Эдуард Леруа и Шарль Пеги, друзья и последователи мыслителя[207]; в плане бергсоновского метода ценны и мысли некоторых других людей, знавших Бергсона лично. Среди них – И. Бенруби, Ж. Гиттон, Ж. Шевалье[208]. Не стоит забывать и о трудах выдающегося философа Уильяма Джеймса, который нередко солидаризируется с Бергсоном, в частности по вопросам методологии[209].
Проницательно охарактеризовал метод Бергсона его младший современник Морис Мерло-Понти в своем выступлении на заседании Бергсоновского конгресса (1959)[210]. В частности, Мерло-Понти предпринял попытку обосновать уникальность исторического места Бергсона как представителя новой рациональности (отразившейся в новой методологии).
Однако, на мой взгляд, в плане интересующих меня (и, я надеюсь, читателя) проблем методологии и специфики бергсоновского мышления стоит особенно выделить из работ зарубежных авторов захватывающее эссе Жиля Делёза «Бергсонизм»[211], – столь необычен предложенный ракурс. Делёз, которого некоторые исследователи считают вдохновителем «ренессанса бергсонизма» на Западе[212], поступает с философией Бергсона не слишком деликатно. Провозглашая метод истинной нитью Ариадны в лабиринтах бергсоновского учения, Делёз деконструирует философию Бергсона, добирается до самих основ этой философии, с удовольствием «философствует посреди», по его собственным словам. Делёза, как настоящего постмодерниста, не слишком интересуют (или он делает вид, что не интересуют) смысловые константы бергсоновского учения; в поле зрения Делёза попадают скорее те смысловые интенции и акциденции, которые можно при желании надстроить над бергсоновской концепцией, но которые при этом не столько имманентны последней, сколько инспирированы именно соответствующим желанием философа-исследователя.
Но, если не включать в поле зрения собственно постмодернистские игры с чужой философией, а брать подходы к ней, бережно сохраняющие исходные смыслы даже при их новом, скажем так, «интонировании», то, конечно, не Делёз будет считаться вдохновителем «ренессанса бергсонизма». Гораздо больше для открытия новых граней бергсоновской концепции сделал крупный парижский исследователь Анри Юд, усилиями которого на протяжении 1990-х годов была опубликована часть лекций[213] Бергсона (хотя философ в завещании запретил издавать любые материалы, которые он сам не предполагал отдавать в печать). В двухтомной работе Юда