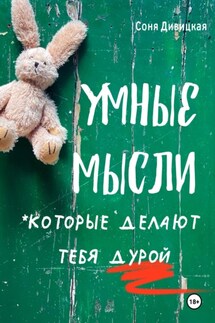Все люди – братья?! - страница 25
Ходить в школу пришлось далеко. Или по железной дороге и через вокзал, или по шляху, мимо мебельной фабрики, мимо паровозоремонтного завода и по Верхнему поселку. Предпочтение отдавалось второму маршруту. В конце нашей улицы располагался лагерь для заключенных, и можно было, когда машины сбавляли ход на переезде через железнодорожную ветку, схватиться за борт или даже оказаться в кузове и проехать километра два. Ни разу не помню, чтобы кто-то из охраны не позволил прокатиться.
Потом зэков куда-то перевели и в лагерь привезли пленных японцев. На машинах, когда их везли на работу, я тоже подъезжал. С японцами окрестная ребятня задружила. Их расконвоировали – бежать-то им до Страны восходящего солнца от Изюма как минимум десять тысяч километров. Питались они по нормам японской армии – когда мы приходили к ним в лагерь, то нас иногда угощали рисом со сливочным маслом. Мы таких деликатесов отродясь не видывали. Любили они возле железной дороги нарезать целые охапки черенков лопуха для какого-то своего блюда.
Нищета, повторяю, у нас была ужасающая. Собирая меня в школу, мать изготовила из черного сатина сумку для учебников. Какая-то ее знакомая сшила из того же сатина рубашонку со стоячим воротником и короткие штанишки почему-то с одной помочью. Обуви пока не приобрели, и пришлось в школу идти босиком.
Потом мать купила на базаре у жэушника, то есть ученика железнодорожного училища, рабочие штаны за пять рублей. Покрасила их в синий цвет, – когда шел, то они шумели. Из старого отцовского пальто сшили пальтишко. И надо же – весной сорок восьмого года я о чем-то слишком задумался, перешагивая на станции ручей из мазута. Из цистерны сливали мазут прямо в ямы. По канаве он и тек. Чтобы преодолевать канаву, кто-то набросал камней. Вот и я, пребывая в мечтах слишком далеко, прыгал с камня на камень, но зацепился за проволоку и ухнул в мазут. Выбрался из канавы – мазут лентами, развевающимися на ветру, стекал с меня. Железнодорожники, видя такое чудо, от души хохотали. «Я тебе штаны из одеяла сошью!» – пригрозил отец.
Зато букварь, разрезная азбука и даже тетрадки у меня были. До школы я уже читал, умел считать, поэтому на занятиях скучал.
Учительница требовала приходить с палочками на уроки арифметики. Врезалось в память, когда она спросила: сколько будет, если сложить три и четыре? Я сидел, о чем-то думая своем.
– Ольшанский, а почему ты не считаешь?
– Я посчитал.
– И сколько будет?
– Семь.
– Когда отвечаешь учительнице, надо подниматься, а не сидеть, развалясь на парте.
– Так сколько будет?
– Я же сказал: семь, – ответил я и стоя.
– Садись. И напиши в тетради, как все, три палочки плюс четыре палочки равняется семи палочкам.
Моя первая встреча с бюрократизмом, в данном случае педагогическим. Я не знал, естественно, тогда, как он называется, но стало обидно. В расстроенных чувствах пошел на переменку. А после нее еще одна неприятность. Только начался урок – одна девочка подняла руку и на весь класс отрапортовала Людмиле Захаровне:
– А Ольшанский школу обмочил!
Меня подняли, потребовали объяснений. Но разве объяснишь, что босиком в туалет с лужами мочи входить противно, вот и пришлось пристроиться к углу школы?
На меня учительница стала смотреть, как на продолжателя традиций хулиганов с той же фамилией. Действительно, чуть ли не в каждом первом классе находилось по Ольшанскому: еще один Саша – в «а», Олег – в «в». Мои троюродные племянники. В школе с ними я почти не знался, однако учителя считали, что мы одна компашка, если вообще не банда. Поэтому проделки одного из нас боком выходили всем троим.