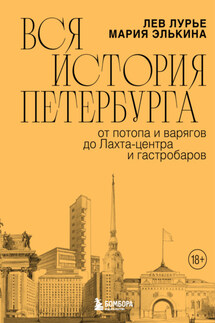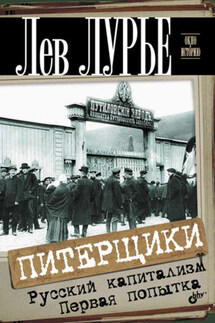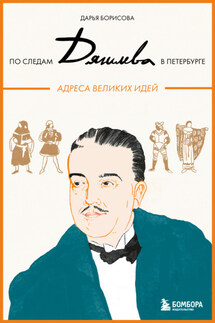Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров - страница 11
Петр между тем неустанно занимался в Европе хедхантингом: для реализации его военных и реформаторских планов необходимы были высококвалифицированные люди, которых на родине не хватало или вовсе не было. Когда царь издал известный указ от 20 октября 1714 года, запрещающий каменное строительство во всех городах, кроме Петербурга, он боролся с недостатком вовсе не камня, а каменщиков. За границей желающих попытать судьбу в России находилось не так много, выбирать людей возможности почти не было – приглашали всех, кто только был согласен принять немалые риски, связанные с суровыми погодными условиями и дикими по европейским меркам нравами.
Весной 1703 года русский посланник в Дании уговорил Доменико Трезини поехать на работу в Москву. Швейцарцу обещали оплату расходов на дорогу, жалование – двадцать червонцев в год, включая время, проведенное в пути, и возможность вернуться обратно в случае, если климат окажется вреден для здоровья архитектора. Договор также предусматривал возможность параллельно с основной работой при дворе выполнять сторонние частные заказы.
Трезини отправился в единственный тогда русский порт, в Архангельск, а оттуда – в Москву. Как мы знаем, пока он путешествовал, на Заячьем острове заложили деревянную Петропавловскую крепость. Корабль, который вез Трезини в Россию, причалил в Архангельске к концу июля 1703 года; в Москву пассажиры прибыли в августе, но уже в феврале следующего года Доменико Трезини оказался на берегах Невы. Никаких особых надежд на него не возлагалось.
Свои первые проекты в России Доменико Трезини реализовал в Нарве. Там он руководил строительством триумфальных ворот на месте бреши, пробитой русскими войсками в крепостной стене во время штурма. Кроме того, он участвовал в строительстве дворца Петра I, которое заключалось в объединении двух уже существующих домов и украшении фасада по моде того времени.
Из Нарвы в Петербург Трезини вернулся к концу 1705 года и почти сразу стал руководить строительством Петропавловской крепости. Военный инженер Вильгельм Киршенштейн, который занимался этим раньше, умер летом 1705 года. Вероятно, швейцарский мастер продемонстрировал в Нарве прилежание, ответственность и определенные профессиональные навыки. И все-таки надо понимать, что его назначение на такую важную работу было в большой степени вынужденным. Выбирать лучшего кандидата из достойных возможности не было, задание поручили тому, кто хотя бы теоретически мог с ним справиться. Проект каменной крепости, которую начали строить в 1706 году, Доменико Трезини сделал, опираясь на существующие чертежи Киршенштейна.
Позже, когда крепость обрела внятные очертания, Трезини упрекали в том, что она оказалась совсем не симметричной, или, попросту говоря, кривоватой. Вероятно, важнее было то, что архитектор в принципе справлялся с организацией столь сложной стройки.
Самая известная работа Доменико Трезини, да и одно из самых узнаваемых зданий в Санкт-Петербурге, – Петропавловский собор внутри крепости. Его образ сложился, как лоскутное одеяло, из пожеланий Петра и собственных знаний архитектора. Сама идея высокого шпиля появилась у царя, когда он увидел что-то подобное на соборе Святого Петра в Риге. Этим пожелания государя и ограничились. Трезини объединил их с тем, что хорошо знал со времен обучения в Италии. (Илл. 3, 4)
Главный фасад собора принципом устройства повторяет церковь Иль-Джезу в Риме второй половины XVI века, ставшую прототипом для великого множества католических храмов почти по всему земному шару. Благодаря использованию двух загибающихся декоративных элементов (волют) более широкая нижняя часть фасада плавно переходит в более узкую верхнюю. В самой церкви Иль-Джезу эта композиция завершается простым треугольным фронтоном, однако Трезини, как мы знаем, по воле Петра должен был надстроить над входом в Петропавловский собор высокую колокольню. Благодаря такой компиляции и сложился ни на что другое в точности не похожий образ здания. Надо сказать, к слову, что во времена строительства ставка делалась скорее на эффектность и красоту, чем на утонченность и хороший вкус. Золоченый шпиль высотой больше ста метров возвышался над совсем низкими домами и еще в основном дикой местностью. Цвета фасадов были куда менее сдержанные, чем нам кажется обычным сегодня, – позолота шпиля соседствовала с темно-синими и голубыми стенами и декоративными элементами белого цвета. (Илл. 2)