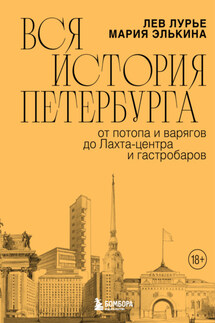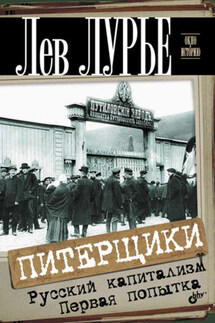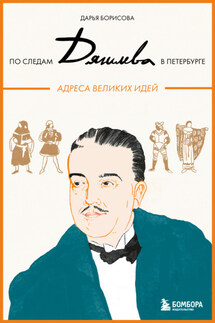Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров - страница 13
Есть, правда, еще что-то, в чем влияние Доменико Трезини на современный облик Санкт-Петербурга проявилось куда сильнее, чем в зданиях. Довольно быстро стало очевидно, что управлять застройкой целого города точечными указами невозможно, и даже трепет подданных перед царем не менял дела в корне. Люди строили дома так, как привыкли раньше. Сложность заключалась не только в упрямстве и силе старинных привычек, но и в том, что со слов довольно сложно полноценно представить себе образ – что именно, как и где нужно построить.
Начиная с определенного момента распоряжения Петра об освоении какой-то территории сопровождались чертежом Доменико Трезини, где была намечена по меньшей мере трассировка улиц. В конце 1715 года подобный план был подготовлен для Васильевского острова. Существует предположение, что Трезини делал чертежи для Выборгской стороны, Коломны, Кронштадта и еще некоторых частей города. Словом, все те огромные пространства, которые в воображении Петра одно за одним становились частью будущей грандиозной столицы, вполне возможно, были поделены Трезини на одинаковые прямоугольные кварталы. Мы не можем судить об этом наверняка, потому что ни один оригинальный чертеж Трезини не сохранился. Довольно хорошо известно, что они могли бы из себя представлять, потому что в 1721 году Петр ненадолго перенес центр на Васильевский остров, и эта местность привлекла к себе внимание в том числе и картографов.
Сетка прямоугольных кварталов, предлагавшаяся Трезини, была по тем временам неправдоподобно крупной: длина проезда между проспектами составляла полкилометра. В общем-то, архитектор пользовался самым старым и самым надежным способом обустраивать пространство городов. На прямоугольные кварталы были поделены древние города Междуречья и Индии, колонии Александра Македонского и Древнего Рима, первые китайские миллионники. Популярность такой системы объяснялась ее простотой и эффективностью. Она универсальна, позволяет легко контролировать застройку (и вообще все, что происходит на территории), упрощает прокладку водопровода и стоков, создает ощущение порядка. Кроме того, деление на кварталы допускает довольно большую гибкость: их наполнение может со временем довольно серьезно меняться, не нарушая общей системы. Тем более это верно по отношению к петербургским кварталам, которые были, как мы уже сказали, необычно большими. Там, где в XVIII веке пропалывали огороды, к концу XIX века могли появиться жилые флигели. Во второй половине XX века некоторые из них снесли, чтобы разбить на их месте скверы и детские площадки.
Доменико Трезини – вероятно, стараясь найти не слишком громоздкое решение задачи, – заложил одну из самых важных основ Петербурга. С одной стороны – длинные монотонные коридоры улиц, иногда непрерывные на протяжении нескольких сотен метров. С другой – довольно насыщенная жизнь внутри дворов, каждый из которых, по крайней мере потенциально, может составлять отдельный, ни на что не похожий микромир. В начале XX века в некоторые петербургские дворы могли встроить, скажем, целый концертный зал. Сейчас внутри центральных дворов города находят себе место рестораны, художественные центры, пешеходные променады.
Однообразие кварталов на Васильевском острове Трезини нарушил только дважды. На стрелке острова он наметил будущую его центральную площадь, выходящую к Неве. Потом архитектор изящно разрешил ситуацию с набережной с южной стороны, которая имела не вполне ровные очертания. Вместо того чтобы пытаться изменить рельеф или, наоборот, вписать сетку кварталов в форму острова, он дал кварталам как бы спонтанно обрываться там, где начиналась вода. Каждое здание на набережной чуть выступает за другое, так что вместе они складываются в довольно живую, ритмичную картину.