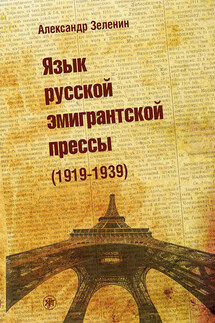Язык русской эмигрантской прессы (1919-1939) - страница 5
Отношение к русской диаспоре в Китае со стороны многих русских беженцев в Европе было противоречивым: с одной стороны, у «европейских русских» сложилось ошибочное мнение о якобы меньших психологических и экономических трудностях, испытываемых русскими беженцами в Китае, что порой вызывало зависть, раздражение, не разделяемые, однако, представителями восточной русской диаспоры. С другой – «европейские русские» склонны были принижать «восточных русских», относиться к ним несколько свысока. Вот как об этом вспоминает Михаил Николаев, старейший житель русского Шанхая, офицер Русского волонтерского корпуса,[8] в своей жизни поменявший несколько стран пребывания: «Если рассматривать всю русскую эмиграцию в целом, то считается почему-то, что мы, приехавшие в Китай, ниже по положению тех, кто оказался в Европе. Нам часто говорят: вы приехали на все готовенькое, вам было хорошо, легче, чем нам. А ведь это неправда. Мы в Китае и в Австралии, а позднее – в США все начинали с нуля. Трижды! Все – с нуля. И не погибли! Вопреки всему – выжили!» [М. Николаев. Жизнь на китайской земле // Первое сентября. 2004. № 5].
1.3. Сколько их было?
1917 г. расколол российское общество на два противостоящих лагеря: сторонников коммунистов, большевиков и тех, кто или не принял социалистическую революцию вообще, или принял, но с известной осторожностью. Накал политических и военных страстей привел к массовой эмиграции не только русских, но и представителей других народов и национальностей. Сколько же подданных бывшей царской России выехало за рубеж? Точных данных до сих пор нет. Трудность заключается в квалификации самого понятия «эмигрант», «эмиграция» применительно к тому времени. Ведь помимо политической эмиграции, часть покинувших Советскую Россию составляли люди, уехавшие не по политическим мотивам, а, например, на работу в Европу, Турцию, Америку, Китай, Австралию. Кроме того, из Европы не вернулось много бывших военнопленных, попавших в немецкий или австрийский плен во время Первой мировой войны. Еще до начала Первой мировой войны из России уехало примерно 2,5 млн. человек [Тишков 2000: 56]. В 1918–1922 гг. огромный размах получила политическая («белая») эмиграция; ее численность, по оценкам В. А. Тишкова, составляет примерно 1,5–2 млн. человек. С. И. Карцевский полагал, что в начале 1920-х г. находилось «более… двух миллионов эмигрантов, покинувших советскую Россию, а также бывшие военнопленные, часть из которых до сих пор еще находится интернированной в концентрационных лагерях» [Карцевский 2000: 245]. Именно об этой группе вынужденных беглецов чаще всего и говорят как о собственно эмиграции.