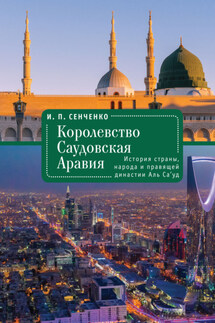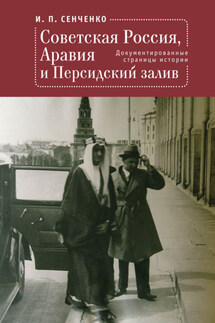Йемен. Земля ушедших в легенды именитых царств и народов Древнего мира - страница 16
По окончании встречи каждому члену экспедиции имам вручил в подарок по маленькому кошельку с 99 монетами; на некоторых из них имелось изображение короны. Перед отъездом путешественников из города имам сделал им еще один подарок – одарил каждого комплектом дорогой национальной одежды. Кроме того, К. Нибуру передали письмо имама, адресованное шейху портового города Моха, с указанием выплатить заморским гостям по 200 монет – в качестве «прощального гостинца» владыки.
Одной из самых запоминающихся сцен повседневной жизни г. Сана’а’ Карстен Нибур называет пятничные посещения имамом соборной мечети города. В 1763 г. он наблюдал за церемониалом возвращения имама из мечети во дворец после пятничной молитвы. В своем «Описании Аравии» отмечал, что подобного зрелища он никогда и нигде прежде не видывал. Имама, облаченного в парадные одежды, сопровождала огромная свита. Она включала в себя всех принцев, не менее 600 знатных и богатых людей города, а также военных и гражданских чиновников городской администрации. По обеим сторонам имама, «справа и слева от него», шли «богато убранные гвардейцы». На верхушках древков знамен, которые они держали в руках, имелись небольшие деревянные сундучки. В них, как поведали К. Нибуру горожане, хранились амулеты, обладавшие силой даровать имаму, во что он свято верил, силу и богатство, процветание и непобедимость. Позади имама и принцев следовали слуги с огромными раскрытыми зонтами, защищавшими членов королевского семейства от солнца. По бокам пышной процессии и сзади нее двигались всадники, «беспрестанно паля из ружей в воздух».
Гарем имама, к слову, насчитывал 400 абиссинских наложниц; дворцовая охрана состояла из 300 гвардейцев.
Йемен тех лет, пишет К. Нибур, представлял собой пеструю мозаику восточных княжеств, этакий музей под открытым небом с хранящимся в нем богатым собранием оригинальных по форме и неповторимых по красоте архитектурных творений одного из древнейших на земле народов.
Поведал К. Нибур и о «многочисленной еврейской колонии» в Йемене. Рассказал о «двухтысячной еврейской коммуне» в г. Сана’а’, представленной в основном золотых и серебряных дел мастерами. Проживая к тому времени в Йемене на протяжении уже более двух тысяч лет, евреи, свидетельствует К. Нибур, «твердо держались своей веры». Одним из центров еврейской оседлости в Йемене, говорит он, был тогда город Танаим, что в княжестве Хаулан.
Повествуя о евреях Йемена, К. Нибур упомянул и том, что иудеям, проживавшим в Мохе, славившимся, кстати, своими золотых дел мастерами, не дозволялось носить тюрбан, то есть чалму, иметь при себе оружие и ездить верхом. Вместе с тем, пишет он, в еврейском квартале Мохи открыто действовала синагога (34).
Рассказал К. Нибур и о «замечательном обычае йеменцев», какого, по его выражению, «было не найти» ни у одного из европейских народов, – о готовности помочь иностранцам, изъявлявшим желание выучить язык арабов, «язык Адама и Хаввы» (Евы). При этом йеменцы, замечает К. Нибур, никогда не насмехались над тем, как чужеземцы разговаривали на местном языке, зачастую коверкая слова и корежа речь арабов. Напротив, всячески поощряли их стремление к тому, чтобы «познать» язык арабов, и с его помощью понять их обычаи и нравы.
Тепло отзывается К. Нибур о гостеприимстве йеменцев и «высоко чтимой ими в чужестранцах» искренности. Передвигаться по их стране, говорит К. Нибур, по крайней мере, по землям, «контролируемым имамом санским», можно было «также свободно и столь же безопасно, как и по Европе». К иностранцам, «представителям народов чужих земель», как их называли йеменцы, с «миром странствовавших» по их краям, они относились подчеркнуто учтиво.