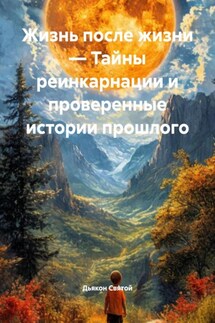Юрий Бондарев - страница 11
Второй рассказ – о фронтовике, вернувшемся в опустошённый дом, где он никого не находит из семьи.
Третий – о девушке, которая любит другого, недостойного.
Смысл: страдание пришло в мир. Нагнетание страдальческих чувств в рассказах проведено назойливо, и самый отбор слов направлен к этой единственной цели. „Он ощущал себя невероятно опустошённым, с невыразимым чувством тоски и обиды, словно кто-то отнял у него святое чувство меры. Ему хотелось обнять руками фонарь, прислониться лбом к его холоду и заплакать“ („Он вернулся“). „Девушка поворачивает лицо к молодому человеку с обиженным внутренним огнём в больших глазах“ („Однажды вечером“).
Это уже что-то от леонид-андреевщины в её нарицательном смысле – что, впрочем, и отвечает намерениям молодого автора. Литературные способности у него несомненно есть, но они направлены в ложную сторону» (РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 1. Д. 1208. Л. 130).
Этот отзыв чуть не поставил крест на дальнейшей творческой судьбе Бондарева. Ну кому в Литинституте нужен был человек с декадентским, скажем так, душком?! Тем более что преподавательский состав института хорошо помнил, из-за чего в вузе в 1944 году произошла чистка и директора Гавриила Федосеева заменили на автора «Цемента» Фёдора Гладкова. Напомню: в институте в разгар войны уличили в «антисоветской деятельности» ученика Виктора Шкловского Аркадия Белинкова, который проповедовал непонятные многим чиновникам теории ОПОЯЗа, и только заступничество Алексея Толстого спасло этого студента от смертной казни (расстрел ему заменили восемью годами лагеря).
Кто отстоял Бондарева и добился его зачисления в 1946 году в Литинститут, до сих пор неизвестно. Правда, уже в нулевые годы критик Бенедикт Сарнов сообщил, что в 1946 году в институт ещё до сдачи вступительных экзаменов, сразу после рассмотрения творческих работ приняли всего трёх человек – Бондарева, Тендрякова и его. Об этом он узнал от своего отца, которого попросил выяснить итоги творческого конкурса, поскольку боялся зайти в Литинститут.
Сам Бондарев много лет везде и всюду утверждал, что его приняли исключительно благодаря Константину Паустовскому. Даже в одном из последних интервью – весной 2014 года – писатель говорил о роли Паустовского в его зачислении в Литинститут. «Поступая в Литинститут, – рассказывал Бондарев киноведу Алексею Коленскому, – показал секретарю приёмной комиссии несколько стихов. Очень умная девица попалась: прочитала, сложила листочки пополам, порвала и бросила в корзину. Сказала: „Юра, забудьте про это!“ К счастью, на рассказы обратил внимание Паустовский, зачислил на свой семинар – без экзаменов» (Культура. 2014. 12 марта).
Но Бондарева то ли память подвела, то ли он по каким-то причинам не захотел сказать всей правды. На первом курсе его консультировал не Паустовский, а другой советский классик – Фёдор Гладков. К слову, в 1946 году этот писатель был не просто преподавателем, он занимал пост директора Литинститута, и порядки при нём там царили похлеще, чем в солдатской казарме.
«Человек совсем неплохой, но, увы, непомерных амбиций, пытавшийся тягаться с самим Горьким, – рассказывал о нём критик (и, кстати, одногодок Бондарева) Андрей Турков, – он завёл в Литинституте свои порядки, порой граничившие с самодурством (например, велел убрать портреты Маяковского и Шолохова). В частности, вместо того чтобы просто, как то надлежало, вновь зачислить в студенты вернувшихся с фронта, таких как я, стал тому препятствовать: дескать, ещё надо выяснить, достойны ли они учиться в „его“ институте, не новое ли это „потерянное поколение“, наподобие того, о котором много писала западноевропейская литература после Первой мировой войны!» (Воспоминания о Литинституте. Кн. 1. М., 2008. С. 515).