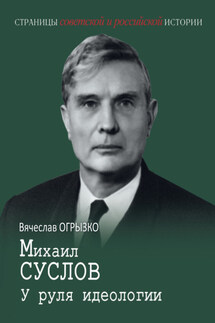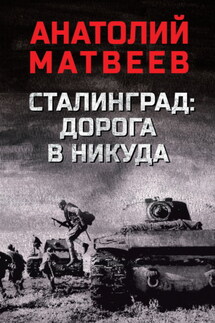Юрий Бондарев - страница 19
Паустовский не знал о фактических неточностях в новых рассказах своего ученика. Но от него не укрылось другое: Бондарев толком ещё не расписался и потому пока нетвёрдо стоял на ногах. В конце 1950 года он сообщил: «Читал на семинаре два рассказа „Наступление“ и „Лена“. Рассказы хорошие, написаны Бондаревым с присущим ему (в меру его авторских сил) мастерством, но всё же не в полную силу. Бондарев умеет и может писать лучше. Сейчас Бондарев готовит книгу своих рассказов для печати. На семинарах Бондарев активен. Высказывания его всегда интересны» (РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 1. Д. 1209. Л. 124).
Но доделывать оба рассказа времени уже не было. Кафедра требовала скорейшего предоставления рукописи диплома. До защиты оставалось чуть больше двух месяцев, за которые предстояло собрать кучу характеристик и отзывов. Какие-то документы досдавались в последние дни – буквально накануне защиты диплома. Скажем, Паустовский отзыв на работу своего ученика занёс на кафедру лишь 2 апреля 1951 года. Но какой это был отзыв! Читаем:
«В работах Юрия Бондарева, актуальных по теме, ценным качеством являются непосредственность и искренность автора, свежесть его ощущений и беспокойство мысли. Этим своим качествам Бондарев изменял очень редко, охотно признавал свои ошибки и к ним не возвращался.
Юрий Бондарев – безусловно одарённый молодой писатель. Пишет он много, но это не „легкописание“. Работы Бондарева являются плодами напряжённой работы мысли и пера.
Язык у Бондарева большей частью чистый и образный. Особенно хороши у Бондарева описания природы, которую он знает и любит.
Рассказы Бондарева психологичны, но без излишнего нажима. Бондарев знает и любит детей и подростков. Ранний его рассказ „Поздним вечером“, написанный о детях, сразу же обнаруживает в Бондареве непосредственного и эмоционального автора» (РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 1. Д. 1209. Л. 1).
Скажем два слова о дипломниках Литинститута 1951 года. Всего на защиту тогда выходило 40 студентов – почти все они были из набора 1946 года. Понятно, что многие выпускники дрожали. Они знали, что в предыдущем, 1950-м году, из 29 студентов шесть человек так и не защитились, их работы были признаны слабыми, и им дали отсрочку на год для переписывания дипломов. Кстати, в 1950 году государственную экзаменационную комиссию возглавлял Константин Симонов, а он скидок никому не делал.
В 1951 году председателем госэкзаменационной комиссии (ГЭК) начальство вместо Симонова утвердило заместителя директора Литинститута по творческой части Василия Смирнова. Но студенты больше всего боялись не Смирнова, а двух других членов ГЭКа – нового директора историка-обществоведа Петра Фатеева и литературоведа Павла Новицкого, которые вполне могли прикопаться к любому студенту в идейном плане. В 1950 году Новицкий чуть не зарубил диплом поэта Владимира Корнилова, а Фатеев – поэта Константина Левина.
Первый день защиты дипломов был назначен на 6 апреля. В тот день через госкомиссию предстояло пройти шестерым выпускникам: Юрию Бондареву, Евгению Винокурову, Михаилу Годенко, Григорию Фридману и двум албанцам – Фатмиру Гьяте и Лазарю Силичи.
Первым на экзекуцию отправился Бондарев. Я нашёл в архиве протокол обсуждения его диплома. Этот документ начинается с описки: «1. Бондарев Юрий Васильевич – сборник стихов. Работа выполнена под руководством К. Г. Паустовского. При консультации В. А. Смирнова, В. В. Смирновой» (РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 2. Д. 28. Л. 51).