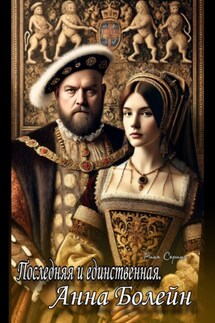Юрий Бондарев - страница 3
Замоскворечье стало для Бондарева во второй половине тридцатых годов самым родным уголком. Позже герой его романа «Горячий снег» – командир огневого взвода Николай Кузнецов скажет: «…ни за что я своё Замоскворечье не променяю, сидишь зимним вечером, в комнате тепло, голландка топится, снег падает за окном, а ты читаешь под лампой, а мама на кухне что-то делает». В слова Кузнецова Бондарев вложил свои чувства конца 30-х годов.
Другим очень близким для него уголком перед войной стала деревенька Чемша на берегу реки Белая. Там жил его дядя Фёдор Гришаенко (мамин брат). У дяди подрастал свой сорванец – Сашка, который был на полтора года старше Юрия. С ним Бондарев во второй половине 1930-х годов проводил каждое лето: вместе рыбачили, бегали за местными девками, бузили.
А интересовала ли Бондарева тогда, в школьную пору, литература? Уже в 1979 году он в интервью критику Юрию Идашкину признался: «Но в 9-м классе литературу невзлюбил: то, что нас заставляли делать с образами классических героев, очень напоминало прозекторскую» (журнал «В мире книг». 1979. № 2. С. 61). Правда, это не помешало ему перед войной поучаствовать в выпуске школьного юмористического журнала.
Ещё несколько важных добавлений. В Москве Бондарев учился в школе № 516 (она располагалась на Лужниковской улице, которую впоследствии переименовали в улицу Бахрушина). Там его в сороковом году приняли в комсомол. После девятого класса он, по одной из версий, переехал в Ташкент. Одно время я был уверен в том, что Бондарев перебрался к отцу, который, видимо, вновь получил назначение в Центральную Азию. Но я ошибался. 3 апреля 1951 года Бондарев, впервые подав документы в Союз писателей, сообщил, что в Москве он окончил 9 классов. «Затем по состоянию здоровья я уехал к родственникам в Ташкент, там окончил 10-й класс». А занимался он, добавлю, в ташкентской школе № 157. Впрочем, по другой версии, в Ташкенте Бондарев учился первую военную осень.
Как бы то ни было, в июне 1941 года Юрий Бондарев вернулся в Москву. Но для чего: для летнего отдыха или для получения аттестата? Это до сих пор остаётся неясным.
Отдыха в любом случае не получилось – вскоре началась война.
«Всё сверкало, всё скрипело»
В конце июня 1941 года Бондарев и многие другие московские подростки были вызваны в райкомы комсомола. Ребятам предложили отправиться на рытьё окопов.
«Нас, – вспоминал Бондарев за три года до смерти, – послали под Смоленск и под Рославль. Всё было почти по-военному; всех разбили по взводам, расселили в крестьянских избах. Определили дневную норму: на каждого три кубометра земли» (Волгоградская правда. 2017. 14 марта). Уточню: местечко, где Бондарев рыл окопы, называлось Заячья Горка.
В самом конце июля немцы прорвали севернее Рославля нашу оборону. Занятые на рытье окопов московские подростки чуть не оказались в окружении. Начальство едва успело посадить ребятишек в последний поезд на Москву.
Вернувшись в столицу, Бондарев прямо с Киевского вокзала помчался к себе домой, в Замоскворечье. Но там он никого из родных не застал. Мать, бабушка, сестра и младший брат уехали в эвакуацию в Казахстан, в городок Мартук. Где в тот момент находился его отец, Юрий Васильевич в 2017 году журналистам не уточнил.
Ещё раньше, в 2009 году, писатель в беседе с публицистом Александром Арцибашевым рассказал, что отыскал уехавших из Москвы мать, сестру и брата в Мартуке: «Там были угольные шахты. Чтобы поддержать семью, летом устроился в местный колхоз. В аккурат уборка хлебов. Мужицких руков не хватало. Работал на лобогрейке, которую тянули две лошади. Меня поставили отгребать скошенную пшеницу. Ох, и тяжела работа! Вздохнуть свободно было некогда. На арбах возили скопы на зерноток, где их скирдовали, а потом молотили. По осени выдали четыре мешка пшеницы» («Наш современник». 2009. № 3. С. 245).