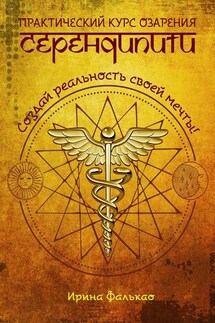Читать онлайн Женя Озёрная - Забери меня, мама
Глава 1
Последние двенадцать лет Аню смертно тянуло в Озеровку. Это было место, где она началась как человек и, наверное, хотела закончиться. Поднимаясь в тесные сенцы бабушкиного дома, затем проходя в избу, во внутреннюю его часть, она мыслями возвращалась в душное лето две тысячи шестого.
Уже тогда Никитины, с чьей дочерью она гуляла, когда приезжала на лето к бабушке, были в Озеровке своими. Наташа, девочка с таким же сытым и приветливым лицом, как её родители, и такая же ученица начальной школы, как Аня, сразу взяла её в оборот и показала, как здесь всё устроено.
«В городе разве со всеми не здороваются? – спросила Наташа и, глядя, как Аня мотает головой, выдала: – Ну дела-а».
В Озеровке нужно было здороваться со всеми, и это Аня усвоила быстро. Вот только местные спрашивали, «чьих она будет», слышали ответ и сразу делали шаг назад, а потом судачили между собой: «Антипихи унучка». Вести вообще разносились по деревне удивительно легко, и каждый раз новые: тогда поговаривали, что кто-то ходит по дворам и тайком доит коров, а поймать его никак не могли. А ещё озеровские были суеверными. Их дети, да и Наташа тоже, проходя мимо дома Аниной бабушки, держали пальцы крестиком. То, что она здесь не своя, Аня тоже уяснила.
Тем более что у бабушки всё было по-другому. Приехав из города, ещё не успевшим привыкнуть нюхом Аня ловила запах старости и украдкой морщилась. Старалась сосредоточиться на горьковатом запахе трав, развешанных у входа, и в который раз уже думала о том, зачем бабушка их собирает, если никого не лечит.
Спрашивать об этом у неё самой было бессмысленно: ответов на свои вопросы Аня никогда не получала, а ведь она одна-единственная задавала их бабушке. Мама, как и все, сторонилась собственной матери, вспоминая о ней лишь тогда, когда нужно было куда-нибудь деть Аню. А больше у них никого и не осталось, три поколения Антипиных – бабушка, мама и дочь.
Задавать вопросы о том, куда делись дед и отец, тоже не было особого смысла. Приемлемым в доме считалось только молчание. Вечерами Аня с бабушкой не говорили ни слова, сидя за столом каждая с кружкой парного молока. Аня свою могла цедить целый час, а вот бабушка всё наливала и наливала себе одну за другой. Непонятно было, откуда в доме свежее молоко, если корову, как и вообще скотину, она не держала, ни с кем не дружила и новостями не обменивалась.
По правде сказать, у неё и новостей-то не находилось. Она, сухонькая горбатая старушка, застыла во времени и не менялась столько, сколько Аня себя помнила. Жить у неё всегда было чуть страшно, пока летом две тысячи шестого страх не дошёл до крайней точки и не разрешился, оставив за собой трещины в печи и раскрытый небесам потолок.
* * *
После нехитрого завтрака скука и молчание всегда оставались дома, ведь к калитке, держа пальцы крестиком, подходила Наташа. Они вместе с Аней убегали в ближайшую рощу и играли в лис – прятались от охотников. Сидя в самой чаще, Аня спрашивала: «А ты почему со мной дружишь?» и слышала в ответ: «Да потому что я смелая». Наташа хоть и родилась на полтора года позже Ани, но вела себя порядком бойче. Это было заметно только в играх – до того самого горького августовского вечера.
Закат уже сгорел, когда Наташа полузаросшей стёжкой проводила Аню до бабушкиного дома и они встретили у калитки потрёпанную чёрную собаку. Взгляд её казался почему-то знакомым, и всё же они не видели такой ни у кого из озеровских. Пощёлкав языком, Наташа протянула к ней руку, чтобы погладить, а та рыкнула и отскочила назад.
Аня тоже отшатнулась – так, наверное, чувствует себя настоящая лиса во время погони, – а Наташа схватила с земли подвернувшийся под руку камень и бросила его так, что Аня вздрогнула. Собака заскулила и пустилась наутёк.
Дышать стало так тяжело, что Аня еле-еле дошла до двери. Трясущимися руками открыла её – а там, и в сенцах и в избе, было темно и стояла густая тишина. Бабушка исчезла, да ещё и свет куда-то запропастился, сколько выключателем ни щёлкай.
Прошло три часа, а она так и не вернулась; не было в тот вечер и противной, но уже такой привычной кружки парного молока. Накрытая тяжёлым стёганым одеялом, Аня утопала в мягкой кровати и пыталась понять, шумит ли это ветер или шуршит по траве ногами, возвращаясь домой, бабушка.
Наутро не было и завтрака. Она сидела у окна, смотрела, как через замызганное стекло пробиваются лучи света, и не говорила ни слова. Ответа на вопрос о том, почему её рука забинтована, Аня не услышала, а когда время перевалило к обеду, вдруг поняла, что не пришла за ней и Наташа.
Бабушка всё-таки сожгла одну из своих трав, наполнив дом дымом, а потом встала и сходила, прихрамывая, в кладовку. Дала Ане старую матерчатую сумку, несколько истрёпанных купюр и какую-то бумажку, молча зажала их в её руке своей рукой.
Разжав кулак уже за калиткой, Аня поняла, что это список продуктов, и отправилась в магазин.
* * *
Вечером на столе стояла литровка тёплого молока, а в сенцах никого не было. Через открытое окно задувал ветер, размахивая шторами и загоняя в дом грозовой дух.
Бабушка лежала в избе и не выходила. Приоткрыв дверь внутрь и просунув в щель голову, Аня увидела, как она заворочалась на печи и охнула, а вслед за этим свесилась сверху забинтованная нога. С тех пор бабушка больше не вставала – ни скоро пришедшей ночью, ни когда-либо ещё.
«Унучка, иди сюда», – раздался с печи надтреснутый голос, когда наступила полная темнота и разом закончился ливень.
Аня услышала это и захотела спрятаться под одеялом с головой, но стало совестно и больно.
«Унучка…»
За стенами дома страшно разгулялся ветер, и трудно было различить, он ли шумит ветвями рощи, где они с Наташей играли в лис, или это бабушка шелестит:
«Я отхож-жу…»
Ужаснее и выдумать было невозможно. Оставалось только закрыть руками уши, чтобы не знать, не слышать, не запоминать, но бабушка вдруг завыла:
«Иди сюда!
Анчутка! Иди скорей!»
И что-то притянуло Аню к печи с той же смертной быстротой и силой, с какими потом двенадцать лет тянуло в Озеровку.
Бабушка полусидела на полатях, протянув вперёд руки, и до последнего старалась не опустить веки, успеть. Аня сгрудилась у неё в ногах и схватила её ладони; они закрыли глаза уже вместе и затряслись нещадно.
Когда всё кончилось, громыхнул гром и опять разогнался ливень. Полати были пусты, и в груди стало так же пусто. Аня слезла, встала посреди избы и посмотрела на треснувшую печь. По голым плечам начала струями стекать дождевая вода, а в потолке обнаружилась дыра.
* * *
Всю оставшуюся ночь Аня не спала. Никитины, к которым она тут же побежала, не в силах больше оставаться дома, взяли её к себе. Указали ей на старую железную кровать в проходной комнате, немного побродили, пошептались и утихли. Последним остался Григорий, их старший. Он молча зажёг в углу – озеровские называли его красным – лампадку и тоже ушёл.
Когда по дому расплылся её запах, внутри поднялась волна боли. Казалось, лампадка должна была успокоить, но этого не случилось. Хотелось уйти, выскочить из дома, но тогда не осталось бы ничего больше, кроме как вернуться туда, где смерть. Нет, слишком страшно.
Никитины размеренно сопели из своих комнат. Аня послушала их с десяток минут, не выдержала боль в животе и встала с кровати. Наверное, нужно сходить в туалет – тогда станет легче. В тишине скрипнули пружины, и давно уснувшая Наташа, ворочаясь, что-то забормотала себе под нос.
Спи – вспыхнуло в голове совершенно новое. Не хочу объяснять.
Аня ступала осторожно, чтобы никого не разбудить, и чем дальше она шла, тем больнее ей было. Как же сильно мучилась бабушка – и как теперь об этом забыть?
Твоё – ещё вспышка. Не забудешь – тихо, но упрямо шипели внутри искры.
Неясно было, сказала она это вслух или нет, но сказать очень хотелось. Что-то заставляло её это сделать, взяло под контроль её губы и язык, шептало ими то настоящие, то выдуманные слова, крутило все внутренности.
Сгинь – откуда-то взялось в голове чужое, грубое слово.
Огонёк в лампадке качнулся, и пришла ещё одна волна боли, новая россыпь искр заглушила всё и забрала все силы. Аня опустилась на колени у выхода в сенцы, оперлась на дверной косяк и сидела так до тех пор, пока Григорий не нашёл её там же.
Молчи. Не спрашивай – проползли в голове мысли, и он, не говоря ни слова, отнёс Аню на кровать. Тогда уже светало, и лампадка погасла.
Аня проспала до тех пор, пока комнату не наполнили лучи солнца, и вышла в сенцы. За столом сидели Григорий и Наташа. Наташа, криво держа нож, намазывала кусок батона сливочным маслом, а Григорий потянулся за телефоном с антеннкой и дал его Ане.
– Номер помнишь?
Аня хлюпнула носом, кивнула и стала его набирать. Услышав в трубке недоумевающий голос мамы, она и вовсе расплакалась.
Григорий отобрал у неё телефон и сказал всё как есть. Мама что-то обеспокоенно заговорила, а он попросил её приехать и обещал помочь.
– Соседи же, как-никак, – аргументировал он, а Аня подумала о том, зачем была лампадка и что будет, если мама сегодня не приедет.
Взяв телефон снова, она взмолилась:
– Забери меня. Только быстрее.
– Я отпрошусь.
Дальше были гудки.
Наташа засмеялась, зачем-то ткнула ножом в стол и тут же получила от отца затрещину.
А у Ани внутри вновь зашипели те же искры, что и ночью.
Не запугаешь…
– Садись за стол, – предложил Григорий, явно переступая через себя.
– Я не хочу есть, – соврала Аня, сделав быстрый вдох и выдох, и убежала во двор.
Долго она там не удержалась – потянуло в дом. Теперь, утром, смерти в нём больше не осталось, хотя на диване в дальней комнате так и валялись окровавленные тряпки, а часы тикали особенно надрывно.
Всё было словно в порядке вещей. Странно, но в то же время по-своему нормально, как кривая сдвоенная ромашка, которую Аня однажды принесла в дом, вернувшись летним вечером с прогулки.
«Почему она такая? Все остальные почти одинаковые, а эта…»
«Как удумано», – только и ответила тогда бабушка.
Теперь всё выглядело именно так, и никаких объяснений произошедшему не было. Из района в Озеровку приехали милиционеры. Они осмотрели бабушкин дом, лазили по разным углам, но так никого и не нашли. Потом они с вернувшейся из города мамой выслушивали Аню с неверящим взглядом. Смотрели озадаченно на дыру в потолке, и в их молчании было что-то, что заставляло задуматься: похоже, взрослые знают не всё.
Бабушку объявили пропавшей без вести, и однажды утром Аня с мамой уехали в город, оставив в доме всё как было. Мама, казалось, вздохнула спокойнее: ей всегда больше нравилось жить в городе – и с тех пор почти туда не ездила. Аня же не раз возвращалась мыслями в Озеровку и таила надежду на то, что этот дом когда-нибудь будет принадлежать ей, и искры тихо шипели внутри. А к людям, кроме мамы и её подруги, протянулись еле видимые нити, к которым ещё оставалось привыкнуть.
* * *
– Ань, – высунулась из-за спинки сиденья Настя, – уже всего ничего осталось, ты посмотри наконец!
И так всё видно.
Аня выглянула в окно летящего на скорости автобуса. За стеклом мелькнула река Кривуля, которая в Озеровке была гораздо уже, и стало вдруг трудно дышать. Нужно было ещё осознать, что теперь, после окончания универа, всё это – река, меловые холмы, сама деревня – теперь так близко.
Как бы мама ни старалась направить её по другому пути, ничего не получилось. Аня устроилась экскурсоводом в заповедник Гремучая Гора и теперь, в самый разгар сезона, ехала туда со своими коллегами и, кажется, уже приятелями – еле видимые нити, связывающие их, начинали крепчать. Настя получила диплом историка на том же гумфаке, где сама Аня стала филологом, а Саша, самый громкий и заметный в автобусе субъект, в своё время выбрал геологию.