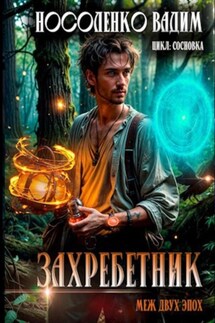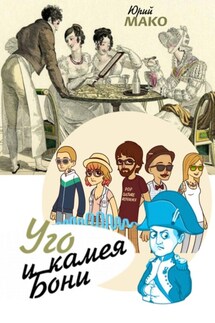Захребетник – Меж двух эпох - страница 2
Казалось, сам воздух здесь был пропитан терпением и лёгкой грустью – теми самыми чувствами, что копятся в людях годами, медленно превращаясь в стойкое жизненное кредо: «Переждем и это».
Внутри автобуса царила особая атмосфера, которую местный краевед обязательно назвал бы «аутентичным деревенским колоритом», если бы не всепроникающий запах бензина, смешанный с потом и какими-то неопознанными деревенскими ароматами. Сквозь грязные, заляпанные окна, давно потерявшие надежду когда-нибудь познать радость мытья, виднелись бескрайние поля, усыпанные полевыми цветами, которые, похоже, не имели ни малейшего понятия о том, что их красота кому-то важна. Они росли сами по себе, для себя, не нуждаясь в человеческом восхищении.
Пассажиры, словно марионетки с истрепавшимися нитями, синхронно подпрыгивали на скрипучих сиденьях, обитых выцветшей тканью с дырами, имевшими, судя по их солидным размерам, собственную богатую историю и не одно поколение пассажиров, оставивших в них свой след. Некоторые сиденья были продавлены настолько основательно, что казалось, ещё один прыжок – и они окончательно сдадутся, признав поражение в неравной борьбе с человеческими задницами.
Паша, тридцатилетний городской житель, щеголеватый и дорого одетый не по местным меркам, сидел у окна и рассеянно ковырял пальцем одну из дыр в обивке переднего сиденья. Ему казалось, что эта дырка – своеобразный символ всей его поездки: кто-то уже тыкал в неё до него, и кто-то, несомненно, будет тыкать после. Всё идёт по кругу, и нет в этом никакой новизны, только бесконечная череда повторений.
Рядом с ним разворачивался самобытный мини-спектакль деревенской жизни. Старичок лет семидесяти, с седой козлиной бородкой, торчащей вперед, как будто она имела собственные амбиции, и гитарой, из которой торчали всего пять струн (шестая, видимо, давно сбежала в поисках лучшей доли), наигрывал нечто, напоминающее мелодию, и напевал тоненьким голосом, похожим на кудахтанье престарелой наседки. Его песня была настолько затянутой, что даже куры, будь они пассажирами автобуса, непременно позавидовали бы её продолжительности.
Старичок был худощав, с узловатыми руками, которые цепко, но с явным артритным дрожанием держали гриф гитары. Его пальцы, тонкие и гибкие, как куриные лапки, порхали по струнам, выписывая простенькие аккорды – иногда попадая в музыкальные ноты, а иногда явно промахиваясь мимо них. Каждый раз, когда он фальшивил или заплетался в песне, старик хитро улыбался, обнажая редкие, но на удивление крепкие желтоватые зубы, доставал из-под сиденья помятую бутылку бормотухи и делал глоток, после чего продолжал горланить с удвоенной энергией, периодически подмигивая полноватой девушке, сидевшей напротив. Та смущённо улыбалась, машинально поправляла густые каштановые волосы и опускала глаза, что вызывало у старика довольное похрюкивание, словно он только что удачно выменял корову на ярмарке.
На особо крупных ухабах пассажиры дружно подпрыгивали и охали, будто это был не просто автобусный маршрут, а какой-то местный ритуал единения через страдание.
Спустя несколько утомительных часов автобус, издав жалобный предсмертный скрип, остановился посреди пыльной дороги, которая едва заслуживала этого гордого названия.
– Сосновка! Приехали! – картаво объявил водитель, распахивая дверь с таким усилием, словно открывал ворота в иной мир.