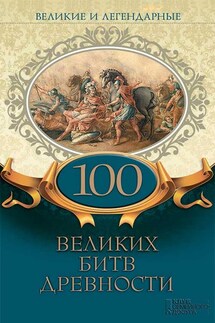Женщина с винтовкой - страница 15
Ошалелые – именно ошалелые – от восторга и возбуждения, спустились мы с Лёлей с галёрки в фойе, чтобы там записаться в батальон, и там сразу же получили холодный душ.
Строгий подтянутый офицер военного министерства испытующе посмотрел на нас, взволнованных и раскрасневшихся, и чуть улыбнулся, заметив, что мы инстинктивно, как маленькие девочки, держим друг друга за руки.
– Вам сколько лет?
Я почувствовала словно укол в самое сердце.
– Во-восемнадцать!
Вероятно, мой голос звучал не только испуганно, но даже с отчаянием, потому что строгое лицо смягчилось.
– Было или будет?
– Бы… Было. У меня даже вот тут свидетельство об окончании гимназии есть…
Я стала торопливо рыться в своей сумочке – я всегда таскала мой аттестат с собой, взглядывая на него по нескольку раз в день, но офицер остановил меня движением руки.
– Не нужно… До 18 лет приёма в батальон нет. В возрасте от 18 до 21 года требуется предоставление разрешения родителей.
Мысли опять сумасшедшим волчком закружились в моей голове. Разрешение родителей?..
– А я сирота, – с испугом сказала в свою очередь Лёля. Её круглое, курносое, румяное веснушчатое лицо было напряжено. Губы вытянулись вперёд, как будто она списывала какую-то трудную задачу. Помню, у неё всегда было такое лицо во время трудных школьных экзаменов.
– Сирота? – офицер на секунду задумался. – Ну, тогда разрешение ваших опекунов.
– У меня нет опекунов. Я живу у своей тёти.
– Тогда принесите письменное разрешение тёти.
– Хорошо… Сюда?
– Нет. Прямо в казарму батальона. Торговая 14, Петроградская сторона.
«Казарма батальона» – ах, как это хорошо и сочно прозвучало… Мы с Лёлей вышли из цирка, как во сне, не обратив даже внимания на возбуждённую толпу женщин, теснившихся в фойе. Лёлино лицо опять стало беззаботным – она знала, что тётя не будет противиться её желаниям. Молодой женский напор, конечно, сломает сопротивление старушки. Да и потом Лёля может и приврать малость – долго ли умеючи? Но вот относительно самоё себя – я была в большом сомнении. Моя мама понимала, что такое казарма и что такое батальон. Её не проведёшь легкомысленными объяснениями. Она знала, что такое военное дело и что значит фронт. Папа был на фронте, а он скорее понял бы меня и дал бы разрешение. И Лиды не было дома – она тоже помогла бы мне уломать мамочку. Она ведь давно звала меня на фронт, правда, как сестру милосердия, но ведь, в конце концов, положение настоящей фронтовой сестры мало чем безопаснее солдатского, конечно, если она не прячется в тылу… А мамочка у нас была серьёзная и строгая, и мы никогда не могли её до конца понять. Как отнесётся она к моей просьбе?.. Словом, во мне не было уверенности в успехе…
Не без сердечного трепета пришла я домой. С восторгом рассказала маме о своих впечатлениях – без всякого намёка на своё решение. Но мамочка сразу же почувствовала, чем это пахнет. Вероятно, мои щёки горели ярче обычного, и было что-то в голосе – какие-то срывы, какая-то интонация. И во время какого-то маленького перерыва в моём рассказе, строгие серьёзные глаза мамы пристально поглядели в мои.
– И тебя тоже захватила эта мысль? – тихо уронила она.
Моё сердце забилось ещё сильнее. Было что-то в голосе мамы бесконечно жалкое, какое-то страдание, какая-то покорность судьбе, словно вот она и хотела бы удержать свою младшую дочь от смертельного риска, но ЧТО-ТО ей мешает. И я ясно почувствовала эту боль. Сорвавшись со стула, я бросилась на колени перед мамой, уткнулась головой в её руки и заплакала. Мы обе были в этот момент искренно несчастными, беспомощными перед силой какого-то РОКА. Она ЗНАЛА, что ей не удержать дочери, я ЗНАЛА, что мне не удержаться от рокового решения. И эта вот беспомощность перед судьбой – было самое тяжёлое в наших чувствах.