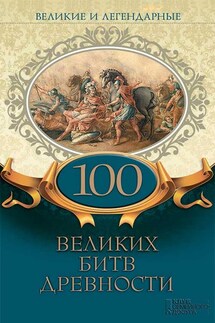Женщина с винтовкой - страница 9
Жора имел больше недели свободного времени, и я взялась показывать ему все красоты и достопримечательности Петрограда – самого чудесного северного города во всём мире.
Я пыталась затевать с Жорой и политические разговоры, но ничего не вышло. Когда я спрашивала его, что такое социализм, он краснел (правда, краснел он часто не из смущения или робости, а такие уж у него были щёки, вспыхивавшие по всякому поводу) – и честно признавался в своём невежестве. Он был натурой артистической и боевой (несмотря на свои девичьи щёки), а в политике не разбирался и не хотел разбираться. Я сперва стыдилась его, но потом перестала, честно рассудив, что человек едет на фронт, и не нужно ему морочить голову. Может быть, поэтому и вышло, что я позволила себя поцеловать и даже не раз и не два. Ну, конечно, я и раньше целовалась с гимназистами на балах и танцульках, но только теперь я всецело оценила «вкус поцелуя». Право, какая чудесная штука человеческий поцелуй – материнский, отцовский, братский, сестринский и, наконец, «его» поцелуй. «Он» – какое хорошее и сразу понятное слово. Пушкин писал в каком-то своём стихотворении, как какой-то гусар плакался в жилетку своему другу про свою неудачу: «Она», мол, и такая и этакая распрекрасная, нежная и даже даёт себя целовать… «Так в чём же дело?» – удивился друг. – «А беда-то вся в том, что я ей не „он“»… И всё горе бедного гусара понятно…
А мы с Жорочкой чувствовали себя именно как «он» и «она» – вместе. Ворковали, дурачились, хохотали, капельку целовались – ей Богу, совсем, совсем невинно (да он и не умел, по правде сказать, как следует целовать, и эта его неуклюжесть была очень «уютна»). И совсем, совсем не думали мы о будущем. Кто тогда мог бы сказать, что пройдут страшные месяцы, а потом годы, и мы заграницей встретимся с этим скромным добровольцем с георгиевской чёрно-оранжевой петличкой на борту шинели.
И что он тогда будет уже капитаном, а я… Боже мой, как могла я даже представить себе, что я буду поручиком Российской армии, героем женского батальона смерти…
Странное дело: мне не было очень грустно, когда Жора уезжал на фронт. Радость жизни и полнота сердца не допускали печальных мыслей. Я думаю, что первая девичья любовь всегда жадна, эгоистична и, так сказать, лична.
«Он», первый «он» – как-то абстрактен: просто первый мужчина, который стал ближе девичьему сердцу. И в этом сердце, в девичьей душе, в чувствах в это время такой кавардак, так много того, в чём ещё невозможно разобраться, что нет никакой объективности, и круг жизни, хотя и блестит всеми красками радуги, но страшно узок. А, может быть, вернее сказать, что в этот период мозги совсем атрофированы – только сердце поёт первую песню победной любви, глаза сияют, губы смеются и руки так и тянутся обнять «его»…
Итак, Жора уехал, а в моём сердце продолжали петь беззаботные птички первой девичьей любви. За Жору, уехавшего в бой, не было ни тени беспокойства. Казалось совершенно невероятным, что Жору, моего Жору, могут на фронте убить, как убили немцы жениха Лиды. Любой вольноопределяющийся 13-ти миллионной Русской армии мог быть очень даже легко и просто убит, но никак не Жора. Хорошо сказано у Пушкина:
Я не знаю почему, но тот период моей юности кажется теперь, спустя почти 30 лет, каким-то светло-розовым и немножко смешным. Пожалуй, каждый возраст имеет свою прелесть, но молодость не умеет наслаждаться в полной мере своей молодостью – слишком она ещё глупа… Разве может, например, молодой, здоровый «бронебойный» желудок понять по-настоящему тонкую кулинарию? Только на склоне своей жизни может человек, приобрев жизненный опыт, понять, что такое действительно хорошо приготовленное кушанье. И какие-нибудь американские миллиардеры, в погоне за своими долларами потерявшие здоровье, взывают в газетах – «миллион долларов за здоровый желудок»…