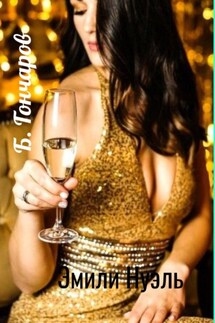Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II - страница 99
В 1924 г. я не сумел распознать ни скрытого контрреволюционного смысла этого плача, ни того, что он являлся, в сущности, мнимо-народным. Я не понял этого и позже и неоднократно ссылался на него в своих работах как на пример подлинно народного памятника. <…> Тем самым я объективно способствовал распространению текста, имеющего по своему существу, как я уже сказал, контрреволюционную направленность646.
Публичное покаяние стало к 1937 г. привычным явлением. Каждому, кто «оступился», надлежало выступить публично и во всеуслышание отмежеваться от своих «ошибок». Отказ от саморазоблачения мог обернуться печальными последствиями. Хорошо понимая необходимость такого шага и его ритуальный характер, М. К. вынужден был отречься от фольклорного произведения, которое всегда считал «подлинным», и от одного из своих любимых учеников, уже поглощенного сталинской репрессивной машиной.
Эхо «Покойнишного воя» сопровождает М. К. в течение нескольких последующих лет. Среди «обличителей» М. К. мы находим и А. В. Гуревича (бывшего ученика), возглавлявшего в 1930‑е гг. секцию фольклора при музее в Иркутске и явно претендовавшего на титул ведущего фольклориста Восточной Сибири. В предисловии к составленному им сборнику можно прочесть следующее:
На протяжении целого десятилетия в области русского фольклора о Ленине в Сибири теоретики фольклора пропагандировали со страниц этнографического журнала «Сибирская живая старина», в различных литературных журналах, в учебных пособиях фальсификацию народного творчества «Покойнишный вой о Ленине» <так!>.
Первая Восточно-Сибирская краевая конференция по фольклору (январь 1937 г.)647 вскрыла классово-враждебное содержание Покойнишного воя, с возмущением указала на грубую политическую ошибку проф<ессора> М. К. Азадовского, который десять лет пропагандировал фальсифицированное произведение. Конференция указала также на недопустимое замалчивание троцкистской сущности «покойнишного воя» и другими теоретиками фольклористики648.
Этот выпад, болезненный для М. К., был ему хорошо известен. Но мог ли он выступить с опровержением!
Впоследствии М. К. еще не раз придется столкнуться с Гуревичем и его «методами».
Что же касается «Покойнишного воя», то это произведение продолжает пользоваться вниманием фольклористов, неизменно подчеркивающих его «аутентичность», то есть внутреннее и формальное соответствие народной обрядовой культуре649. Интерес к этому «плачу» и попытки его осмысления можно наблюдать и в наши дни650.
В контексте 1937 г. следует упомянуть также о другом эпизоде, стоившем М. К. немало душевных волнений.
В книге «Русская сказка», сообщая биографические сведения о Н. О. Винокуровой, М. К. указал, что Наталья Осиповна скончалась в 1930 г. в возрасте около 70 лет651. Он узнал об этом в Иркутске незадолго до своего отъезда в Ленинград и с горечью воспринял это известие. «Знаете, какое у меня горе, – писал он 31 июля 1930 г. А. А. Богдановой, – умерла моя бабушка Винокурова, к которой я собирался еще раз съездить на Лену»652.
Сообщение оказалось ошибкой. Верхнеленская сказочница еще здравствовала, о чем М. К. стало известно через семь лет благодаря разразившемуся скандалу.
Летом 1937 г. в главной иркутской газете появилась заметка:
Винокурова Наталья Осиповна – сибирская сказочница. Ее сказки не раз издавались в разных сборниках, хрестоматиях и в изданиях библиотеки «Сокровища мировой литературы»