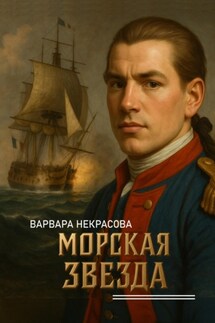Журавушки - страница 37
А тащиться к реке и потом всю ночь просидеть возле костра – уже не тянуло. Разговоры возле костра заменили беседами на крыльце. Отец не звал на рыбалку. Видать, понимал, что Павел оторвался от родного дома. Приезжает – и на этом спасибо. А другие-то как укатили – и с концами. Носа не кажут, открытками да письмами отделываются. Это жизнь и никуда от нее не денешься…
Он ходил по берегу, оглядывался на деревню, а потом опять пытался разыскать место, куда ходили с ночевьем. Речка изменилась за долгие годы. Половодьями подмывало берега, и они рушились. Появлялись новые островки и острова, виднелись отмели и мыски, а где был пустынный берег, там всё позаросло кустарником.
Природа не стоит на месте. Она жила и будет жить, а вот человек – это пылинка. Появился в этом мире, мелькнул и исчез, а на его месте новая пылинка оказалась. Появилась, чтобы тоже сгинуть. Вот и получается, что человек рождается в природе, чтобы исчезнуть…
Павел мотнул головой, подошел к поваленному дереву, уселся, достал из сумки бутерброды и стал медленно жевать, поглядывая на быструю воду. Мелькнула стайка пескариков. Застыли и тут же бросились врассыпную от полосатого разбойника, который вышел на охоту. Павел взглядом проводил их. И снова вздохнул.
Н-да… Приехал в деревню, называется. Какого лешего припёрся сюда? Сны, сны… Ишь, одолели! Покоя не стало! А вот приехал, и полегчало, что ли? Да черта с два! Еще тяжелее стало…
Павел опять ругнулся. Стряхнул крошки. Газету смял и сунул под бревно, на котором сидел. Авось какой-нибудь рыбак наткнется. Пригодится для костра.
Взглянул на вечернее солнце. Уж над горизонтом нависло. Скоро начнет темнеть. А он сидит на берегу и нюни распустил. Если ночлег не найдет, тогда возле речки придется ночевать. Автобус-то завтра с утра будет. Здесь они раз в день ходят. Раньше чаще ходили, а люди стали уезжать, деревни опустели, и автобусы стали реже пускать. А в некоторых деревнях вообще не появляются. Возить некого. И если не успеешь на единственный автобус, можешь пешком топать. А до города, как до Китая вприсядку.
Э-хе-хе! Павел закрутил головой. Приложил руку к глазам и прищурился, рассматривая дворы. Возле домов, где картошка зеленеет на огородах или копенки сена стоят, в них живут, а брошенные дворы бурьяном позаросли – заборов не видать. Постоял, почесывая небритую щеку, а потом стал подниматься по заросшей меже.
– Хозяева, – ткнувшись в закрытую калитку, крикнул он, заглядывая во двор. – Эй, есть кто живой? Повымирали все, что ли…
Постоял, прислушиваясь, но стояла тишина. Из конуры выглянула собака. Вылезла, потянулась и зевнула. Потом нерешительно тявкнула, заюлила хвостом и снова скрылась в конуре. Павел стоял, пытаясь заглянуть в окно, а потом опять протяжно крикнул.
– Ну, что разорался как резаный? – позади него раздался скрипучий медленный голос. – Что высматриваешь, мил-человек? Не гляди, уж всё порастащили – это ворьё проклятущее. Так и шастают, так и норовят что-нить стибрить. А тебе что надо?
Опять спросил он.
Павел вздрогнул и оглянулся. Перед ним стоял высокий худой старик в штанах, заправленных в носки, сам в галошах. Несмотря на теплый вечер, на нем фуфайка, из-под которой виднеется синяя клетчатая рубаха, а на голове фуражка.
– Что тебе нужно, мил-человек? – опять сказал старик и взялся за калитку. – Высматриваешь, что плохо лежит? Собаку спущу, вмиг на кусочки разорвет. У, какая она злющая! Ага…