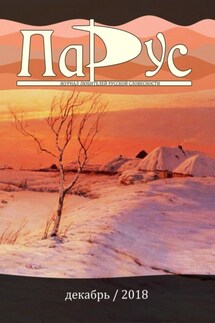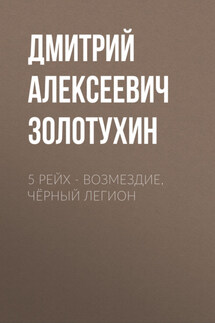Журнал «Парус» №70, 2018 г. - страница 11
В «Жизни Будды» индийского поэта Ашвагхоша (в переводе К. Д. Бальмонта) целая страница с описанием похожих чудовищ: полузверей, полульвов-полубыков; как Хому Брута, они окружают Будду, сидящего под дубом – но он, просветленный, не видит этих призрачных чудовищ во главе с богом зла и смерти Марой и тремя его дочерями.
Голова одних свиная.
У других, как будто рыбья…
Те – коням подобны быстрым,
Те – подобные ослам.
Лик иных был лик звериный,
Лик быка, и облик тигра,
И, подобные дракону,
Львиноглавые скоты,
На одном, иные, теле
Много шей и глав носили,
Глаз один на лицах многих,
Лик один, но много глаз…
А другие точно складка,
Весь живот, как провалился,
Ноги тонкие одни….
Безголовые там были,
Те безгруды, те безлики,
Две ноги, а тел не мало,
Лики пепельной золы.
Сотник и его слуги, козаки – эти дневные личины бесовского дна, силящегося овладеть храмом и душой человеческой, загодя начинают охоту на философа Хому Брута.
Гоголь в повести не раз неназойливо напоминает об этом – у него каждая фраза в своем гнезде. Вот Хома подходит к брике, чтобы ехать к сотнику.
– Здравствуйте, братья-товарищи!
– Будь здоров, пан-философ! – отвечали некоторые из козаков.
– Так вот мне приходится сидеть вместе с вами? А брика знатная! – продолжал он, влезая. – Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно.
– Да, соразмерный экипаж! – сказал один из козаков, садясь на облучок сам-друг с кучером, завязавшим голову тряпицею, вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разною закупкою, сделанною в городе.
– Любопытно бы знать, – сказал философ: – если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром – положим, солью или железными шинами: сколько бы потребовалось тогда коней?
– Да, – сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, – достаточное бы число потребовалось коней.
Очерченный кругом быта, философ удивляется размерами знатной брики в живых, красочных сравнениях: соль, железные шины. Козак же отвечает: «Да, соразмерный экипаж». «Да, достаточное бы число потребовалось коней» – в общем, абстрактно отвечает козак. Ведь бесу всё равно, сколько лошадиных сил – он не видит предмет в поэтических (тавтологических) подробностях, как, например, в народной песне: уж ты конь мой, конь, лошадь добрая – а в общем – как схему. Что пять лошадиных сил, что сто – мигом подгонит!
Это не только ради смешного словца, для юмора, как воспринимается с первого взгляда; за «достаточным числом коней» не разглядел бесовской глумоты даже такой религиозный писатель, как Владимир Крупин. В записях разных лет «С утра пораньше» («Наш современник» № 9, 2016) как будто сама абстрактная сила отвела глаза автору. И стали козак и философ – кумовьями: «У Гоголя разговаривают два кума, сколько груза можно поместить на возу. И один гениально говорит: “Я думаю (!) д о с т а т о ч н о е количество”. И всё. И всё понятно». (Разбивка и восклицательный знак подлинника.)
Гномы в личинах людей так плоско, как пленку, видят наш бытовой мир – абстрактно, потому что и сам бес – абстракция, личина, псевдоним, как о том убедительно рассуждает хоть Л.П. Карсавин в своей книге о троичности личности: «Где абстракция признается бытием, там уже и бес, и смрадный запах… У беса нет лица и он пользуется человеком, как личиною, он по существу своему “лицедей”, злой, но “смешливый”, глумливый»… И еще любопытно: «Имена их сильно до неузнаваемости изменились в течение долгой истории человечества; и мало кто знает, что ныне бесов называют “субстанцией”, “субстанциональным деятелем”, “причиною” и другими, казалось бы, невинными или даже совсем неподходящими именами вроде “религиозного переживания” или “христианского союза молодежи”».