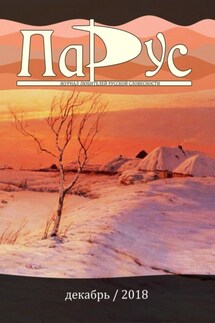Журнал «Парус» №70, 2018 г. - страница 16
Пейзажи за окном сменяются так же быстро, как и фразы, звучащие вокруг и плотно отпечатывающиеся в моей голове. Глаза ослепляют блики восходящего солнца, порождаемые гладью Таганрогского залива. Проезжая родину писателя Вацлава Михальского, недавно отметившего свой 80-летний юбилей, поезд делает остановку на железнодорожной станции Скопинского района. И вот уже с нами едет небезызвестный Захар Прилепин. Все с упоением слушают главу из книги «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы», которую читает филолог, публицист и военный журналист.
Смотришь и не веришь: то ли это кинолента, транслируемая на мониторах окон, то ли игры воображения… За приподнятой шторой бесконечные леса, березовые рощи, ручьи, сказочные деревянные домики, равнинные луга, пушистые холмы, статные лошади, верхушки гор, присыпанные снегом.
Незаметно подъезжаем к Воронежской области, селу Скрипниково. Здесь родилась Лидия Сычева, давний гость страниц журнала. Наблюдая за полузаброшенными поселениями, заколоченными наглухо окнами в старых хатках и размытыми дорогами, мы вместе сокрушаемся о тихой гибели таких сел. Кто-то рядом тяжело вздыхает и присоединяется к разговору о том, что убивает нашу деревенскую культуру: «Соцреализм вроде бы и не отрицал национального, но оно было во многом картонной декорацией, ряженностью, привязкой к месту действия, а действие было одинаково везде: строительство неведомого светлого будущего». Это Владимир Крупин, православный писатель, рассуждает о русском стиле, добавляя, что если русский стиль был, – а он был, существовал, – то он и есть, он действует, он живет хотя бы в тоске по нему. На мой немой вопрос о том, как же его продолжать в условиях современного города, Крупин тут же отвечает: «Я никуда не денусь, я живу в цивилизации, но как писатель я живу историей».
Конечно! Сколько раз сам Виктор Иванович говорил: «Пока я пишу – я помню». Помним и все мы, сидящие на мягких сидениях плацкарта, устремленные не вдаль, но вглубь. Ведь память является связующим мостиком между «вчера» и «завтра», образуя «сегодня». А никакое «сегодня» невообразимо без знания русской истории, почтения и уважения к ней.
Предаваясь светлым ностальгическим воспоминаниям, из конца вагона выходит в центр поэт из станицы Кореновской – Николай Зиновьев. Разговоры постепенно стихают, и мы погружаемся в безбрежные просторы его лирики:
А в глубинке моей
Нет ни гор, ни морей.
Только выгон с привязанной тёлкой.
Да древко камыша,
На котором душа,
Маясь, мечется сизой метелкой.
«В его стихах говорит сама Россия», – восторженно подчеркивает Валентин Распутин. В безмолвном согласии аплодируют все попутчики: Алексей Смоленцев, Юрий Кузнецов, Светлана Медведева, Юрий Лощиц и остальные. И пока одни воспевают любовь к родным местам, а другие наслаждаются волшебством поэзии, я выхожу в тамбур. Но вовсе не для того, чтобы побыть в одиночестве и поразмышлять об услышанных строках, нет. Здесь, как обычно, в самом разгаре споры мэтров литературной критики. Маргарита Синкевич, Сергей Распутин, Леонид Бородин… Все они с живым интересом говорят о современной публицистике, об истинном патриотизме, о книгах Румянцева и Михальского, о православии и культуре казачества, словом, обо всем, к чему должен быть неравнодушен русский человек.
Задумывавшись о таких важных вещах и едва не вступив в разговор, я вдруг замечаю, что хотя состав и прибавляет ход, Виктор Иванович остается на одной из станций и, улыбаясь, провожает наш вагон спокойным взглядом. Глаза его говорят о том, что он вернется, и не раз, но с этих пор его местом станет одно из пассажирских сидений среди остальных путников.