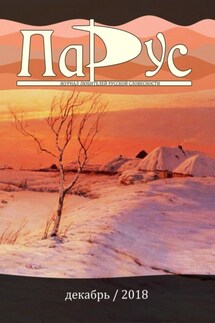Журнал «Парус» №70, 2018 г. - страница 18
Я запомнил это высказывание навсегда.
***
Лучились дыры сеновала,
Звенело тихо комарье,
Когда она с себя снимала
Простое платьице свое.
И в пятнах света, в тихом звоне
Мы растворялись целиком…
И грудь ее в мои ладони
Лилась топленым молоком.
И это тоже было в моей жизни… Теперь, глядя из своего городского многоэтажного далека на себя тогдашнего – юного, восторженного, со стеблями сена в буйной шевелюре, я думаю: Господи, сколько же Ты всего подарил мне!
А тогда я не думал, не анализировал, не копался в себе – а жадно пил из чаши бытия, пил с закрытыми глазами…
ПЕРВЫЕ ДНИ
День идет. Отбой всё ближе, ближе…
Я засну и буду видеть сны.
Может быть, во сне я не увижу
Ненавистной рожи старшины,
Не услышу злобной матерщины,
И не будут больше мне страшны
Прапоры, сержанты и старшины…
Я засну и буду видеть сны.
Это самое первое стихотворение, написанное мною в период пребывания в славных Вооруженных Силах СССР, в учебном центре. Помнится, в первую же ночь старшина Артамонов, обладатель высокого статуса «лучшего прапорщика Ленинградского военного округа», погнал нашу роту красть цемент у соседнего подразделения – и несколько часов подряд мы бегали с носилками по темной строительной площадке, как угорелые. На другой день соседняя рота простаивала, а наш ротный получил от командира благодарность за четкую организацию хода работ.
Через пару дней тот же Артамонов приказал выйти из строя одному из наших курсантов – и с треском надел ему на голову ротный барабан. Правда, парень и впрямь провинился: отрекомендовавшись слесарем и вообще мастером на все руки, вызвался починить главный музыкальный инструмент нашего подразделения, – но не справился.
Пунцовая от обиды голова страдальца торчала из лопнувшего барабана и источала детские слезы, а двухметровый прапорщик мягко, как барс, прохаживался перед строем, хищно вглядываясь в наши оторопелые лица. На его лице не было и тени улыбки.
– Я ведь тебе, слесарь гребаный, ясно сказал: не сделаешь – я тебе этот барабан на голову надену! – рычал он. – И надел, как видишь! А столярам – шкафы и столы надену на голову! А электрикам – лампы дневного света!
Много я помню всего такого…
ТОТ СОЛДАТ
Забыть бы тот тоскливый взгляд,
Тот злобный тон… Вот незадача!
Опять он рядом, тот солдат, –
Стоит, лицо в ладонях пряча.
Сквозь пальцы сжатые ползут
На ворот новенькой шинели
Две капли… Чей-то скорый суд.
– Скажи мне – кто тебя, земеля?
А он куда-то вбок глядит
С немым отчаяньем во взоре
И, сплюнув, злобно говорит:
– Кого гнетет чужое горе?
Солдатчина времен конца коммунистической эпохи (да и позднейшего времени) еще не осмыслена нашей литературой художественно, серьезной прозы об этом нет. Боюсь ошибиться, но всё, что мне по сию пору довелось прочесть на эту тему, – лишь беллетристика, пусть иногда и талантливая. Сугубому большинству текстов недостает образного решения, которое одно только и способно объемно выразить смысл.
Послужив в самом начале 80-х годов в «советской армии» полтора года рядовым и младшим сержантом, я много чего повидал – и мог бы, наверное, рассказать читателю что-то любопытное. Но для меня самого до сих пор самым ярким произведением о срочной службе в те годы остается рассказ моего армейского приятеля Абая Сейткалиева. Передаю этот рассказ так, как он мне запомнился.
«Каждое лето наш мотострелковый полк возили под Архангельск, в Нюхчу, канавы рыть на болоте. Вот, привезли нас, поставили мы палатки, начали рыть. Офицеры тут же закрылись в своей палатке, стали водку пить, – а мы попали в распоряжение “дедов”. Те поставили задачу: каждому воину за день надо вырыть по десять метров, а если нет – иди вечером в “дедовскую палатку”, получай звездюлей. И вот я однажды не смог выполнить норму – и поплелся на расправу.