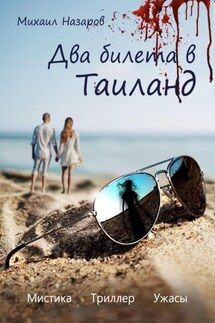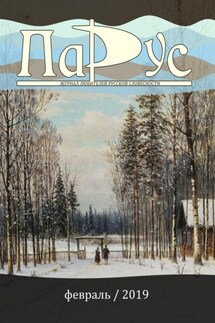Журнал «Парус» №72, 2019 г. - страница 16
Скорее всего, за этими строчками, написанными в середине 80-х годов, кроется тогдашнее мое желание соответствовать, – в том числе и на уровне семейной биографии, – какому-то внешнему канону, желание втиснуть живую жизнь в определенные рамки. А если жизнь не втискивается в канон, если собственный предок не отвечает неким высоким критериям – тем, значит, хуже для него…
И это, конечно, ребяческий взгляд на вещи. Взрослый человек глянул бы на проблему иначе, а именно вот как: в годы страшного лихолетья моему деду повезло несказанно – не загремел на передовую, не сгинул в огненной пучине. Да ведь и не был дезертиром Михаил Андреевич, не прятался от войны, просто служил там, где служил – на артиллерийской батарее, оборонявшей Ярославль от немецкой авиации. И сапоги при этом шил, верно, – поскольку с молодых лет слыл в своей деревне Верхнее Березово отличным сапожником. Даже частушку там сложили про него:
Как Мишухе Чоканову
Заказали сапоги:
Ты пожалуйста, пожалуйста,
Повыше каблуки!
Побольше скрипу-то положь –
Уж больно парень-то хорош!
Кому же было и тачать сапоги в зенитном полку, как не ему. Всё это я понимаю. И всё оно так, конечно.
Однако, как на века сказал Александр Твардовский: «…но всё же, всё же, всё же…»
КЕНТАВР
Вдали кричит облава.
Где путь назад?
Трава вокруг – отрава,
В колодцах – яд.
Ты с детства был приучен
Жалеть людей,
Но дети их замучат
Твоих детей.
Пришло другое время…
Уйти? Кому?
Уйдет лихое племя
В Тартара тьму.
Но гневно и печально
Взгляни назад:
Хрипит в узде твой дальний,
Плененный брат.
Сопротивляться – глупо,
Со всех сторон.
Но без тавра на крупе
Издох Хирон.
Кто сзади – белый воин
Иль черный мавр?
Чей череп не раскроен?
Лети, кентавр!
Рано или поздно, но я должен был, как всякий творческий дебютант советских времен, столкнуться с бетонной стеной официоза. Столкновение было шумным – и началось с этого юношеского стихотворения, написанного в 1977 году и тогда же опубликованного в поэтической стенгазете, собственноручно изготовленной мною и мною же прикрепленной кнопками к голой стене факультетского коридора. Обычный студент-третьекурсник, не блиставший успехами ни в учебе, ни в общественной жизни, я мгновенно привлек к себе взоры факультетского бомонда: смотрите-ка, на что способен этот кудрявый паренек, приехавший в областной центр из какой-то глухомани. Он, оказывается, думает что-то своё, да еще и не боится озвучивать свои мысли… Моя фамилия тут же стала известна преподавателям, профоргу, парторгу, декану, проректору: вся административная цепь провинциального вуза слегка заискрила.
Слава Богу, до короткого замыкания дело тогда не дошло. Спасли меня собратья по перу, ярославские литераторы. Поэт-фронтовик Павел Голосов, на суд которого вузовское начальство отдало мою стенгазету, увидел в сочинениях студиозусов лишь обычное юношеское фрондерство, а относительно стихотворения «Кентавр» благодушно заметил, что его автор «даже изощрен». Вузовское начальство облегченно вздохнуло: ну, раз политической крамолы во всём этом нет, пускай творческая молодежь резвится себе на здоровье. Погрозив мне советской хворостиной, партком дал добро на выход в свет второго номера поэтической стенгазеты, а затем и третьего.
Ровно сорок лет прошло с тех пор. Сегодня, перечитывая своего «Кентавра», я вижу, что в этой пробе юношеского пера была поставлена серьезная проблема – проблема взаимоотношений творческих людей с людьми обычными. Всем образным рядом своего сочинения я стремился передать мысль, казавшуюся мне тогда открытием: каждый настоящий поэт всегда чужд окружающим его людям. Они видят, что он – «не такой», понимают, что он «думает что-то свое», и поэтому боятся его, гонят его и, в идеале, хотят уничтожить. Лишь поставив свое человеческое клеймо на круп кентавру, люди облегченно вздыхают и несколько успокаиваются.