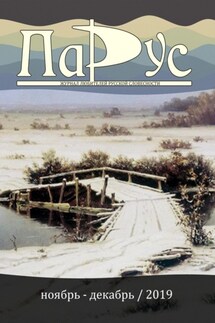Журнал «Парус» №79, 2019 г. - страница 28
Не следует забывать, что тема Воздаяния через апокриф о «милостивом суде Приснодевы» (прощение «всех без разбору») автором отдана Ивану. И даже здесь речь идет не о «всепрощении», а облегчении мук от Пасхи до Троицына дня.
Христианство, сохраняя потенцию всепрощения, отвергло его неизбежность. Бесы не могут воспользоваться им из гордыни. В этом их мука безлюбия. Из-за дара бессмертия, ставшего проклятием, они не могут даже истребить себя, что было бы для них благом. К тому же гордыня не приемлет милости. Человеку же дан шанс на помилование в вечности, где идет брань за него. Посмертие отведено душе в ожидании ею Страшного суда. Чистилище, присутственное место католиков, по Суде будет «упразднено».
А православие в нем не нуждается, поскольку «вечность» души в нем не локализована в пространстве, как у католиков, а подвижна как состояние: душа может быть помилована (заблуждению не будет места) по молитвам за нее. Всепрощение Оригена фундировано Предопределением Августина и чистилищем как их регулятором.
Промысел снимает этот соблазн. Это Зосима и имеет в виду, говоря о духовном аде как состоянии души. Безусловно, о всепрощении, против которого бунтует Иван, у автора нет и речи. Его частный суд – суд совести, а Страшный – суд Божией любви.
Иван же, подобно Иову, «спешит меры принять». Уходя в переулок, в подполье своего одиночества, болея душой, как Митя за плачущее «дитё», он замещает Крест «неискупленной» слезинкой, оправдывает свое неприятие мира, возвышает неутоленную жажду полноты; утоление и искупление умышленно им смешаны. А подмена Судии собой любимым ведет к окаменению, оскоплению, а не обрезанию сердца.
Зосима же верит, что неискупленных мук нет. Для него суть заключается в раскаянии за всякую вину, даже чужую, потому что он «за все и за всех виноват» и «совершенная любовь изгоняет страх» (I Ин. 4:18). Он учит Алешу подражаниюХристу: «Поднимутся беси, молитву читай», т.е. ограждайся покаянием; лишь оно дарует смирение, трезвение духа.
Отцы учат: «Будь внимателен и осторожен! Не позволь себя доверить чему-либо, не вырази сочувствия и согласия, не вверься поспешно явлению, хотя бы оно было истинное и благое: пребывай хладным к нему и чуждым, постоянно сохраняя ум свой безвидным, не составляющим из себя никакого изображения и не запечатленным никаким изображением… Бог не прогневается на того, кто, опасаясь прелести, с крайней осмотрительностью наблюдает за собою, если он и не примет чего, посланного от Бога, не рассмотрев посланное со всею тщательностью; напротив того, Бог похваляет такого за его благоразумие» (Григорий Синаит. Добротолюбие. Т. 1), «Смутися о словеси его, и помышляше, каково будет целование сие»: «Како будет сие, идеже мужа не знаю» (Лк. 1; 29, 34). «И откуда мне сие, да прииде Мати Господа моего ко мне?» (Лк. 1; 43). Потому Фома усомнившийся и признан исповедующим Христа, вошел в круг верных.
II. Герой как способ исповеданияверы и горнило сомнений автора.
Всякая культурно-историческая мысль занята проблемой идентификации, для начала – национальной, поиском идеала, героя. Но дать реально положительный тип гораздо сложней, чем отразить «романтичный»; это подтверждал и автор.
Когда он говорит о трудности создания «положительно прекрасного человека», то имеет в виду совмещение «поэзии и правды» (расхожие пути ему известны – героизация чувств