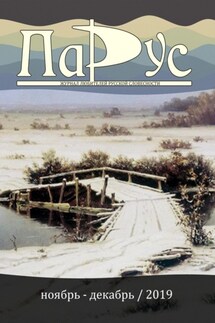Журнал «Парус» №79, 2019 г. - страница 29
). Но чисто литературный тип обычно безжизнен.
Необходима гармонизация связи между мечтой и средой: сострадающий «слабому сердцу» «истинный реалист» (ср. с «истинным романтизмом» Пушкина) сменяет мечтателя, гордеца, бунтаря, изгоя. Позитивизм же вел к нигилизму; потому необходим над-социальный план. Динамика образа в пятикнижии неизбежно вела к иноку в миру.
В «Карамазовых» исход оказался обозначен, «вопрошание идеального образа» свершилось. И здесь выявляется некая тенденция: мы открыто сочувствуем «злодеям»: Инквизитору, а не Зосиме, Ивану, а не Алеше (Сальери, а не Моцарту, Онегину, а не Татьяне). В том как будто повинны авторы, но избираем по сродству мы, забыв, что романтика бунта, смешав бытие и быт, творит без-образие.
Истоки наших со-чувствий, подменяющих молитву, аскезу, сораспятие – мировой скорбью, уходят в смешение римского и нашего Credo, их Предопределения и нашего Промысла. Доходит до заявлений, что созидатели (Татьяна) не могут быть героями, неинтересны, а проблемны лишь эгоцентрики. Идет это от либерально-эстетического, «скептического» вкуса.
Автор ясно говорит: «уж не пародия ли он?»; мы же, шарж приняв за идеал, творим милого нам идола. Мы эстетизируем ущерб, находя в нем интерес. Муки героя нам чужды, занятна лишь его гибель. Причина скрыта в смещении критериев, в узнаваемости, в тяге к сомнительному, в легкости подмены жизни идеей, назиданием, эстетикой.
В этой связи отметим, что спорная мудрость автора отражает кеносис Божьей правды, Истину любви в изменчивых ликах мира. Параллель ей – формула Эйнштейна, приложимая лишь к физическим явлениям (при сверхсветовой скорости масса исчезает, тело теряет плоть, аннигилируется; это та разница, что Аристотель отмечал между своей энтелехией и эйдосом Платона).
Если идеологическая составляющая есть основа, то что есть образ, лишь орудие? Даже если так, идейная заготовка требует тонкого инструмента. Пользуясь же авторской метафорой почвы, за нее, за основу примем образ, а идея – орудие.
Образ тоже орудие, но огнь поядающий и червь небесный, что рыхлит почву и точит материю, истончая ее до субстанции духа.
Замысел о положительно прекрасном человеке, христоподобном герое, соотносимом с единственным положительно прекрасным Лицом, – слишком общая идея, чтобы не претерпеть развитие в ходе обработки. Социально-моральный активизм князя еще близок к общим, межконфессиональным, точнее, прозападным установкам христианского социализма просветителей и позитивистов. Поправкой к общегуманистическим (по сути, ренессансным) нравственно-эстетическим ценностям и прививкой к стареющему стволу западно-христианской цивилизации стала идея автора о почве, о русском народе-богоносце, вложенная в уста героя и на нем же проверенная на жизненность.
Мысли о «русском Христе» – западные по методу и истоку, близкие русским поклонникам Шеллинга и Гегеля (любомудрам-славянофилам). Это идея национального (позднее, сословно-социального) мессианизма. Герой и идея потребовали корректировки. Не так изменился замысел, как его понимание, отношение автора к идее, герою-идеологу.
Данный материал не позволял решить усложнившиеся задачи, и автор не был к ним готов; для вызревания новой идеи понадобился опыт работы над «Подростком» и образом Тихона в «Бесах».
На истории нестройной семейки он усложнил старый-новый замысел идейно, структурно, сюжетно, жанрово и пр.