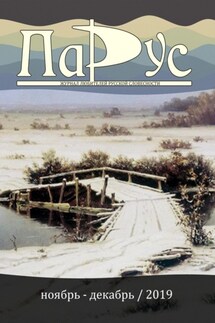Журнал «Парус» №79, 2019 г. - страница 31
В вариациях аскезы в миру, прежде всего через послушание Алеши, будущую его судьбу (должен уйти в революцию, как в секту), автор решает тему интеллигенции и народа, государства и Церкви, истории и культуры, революции как религиозной идеи.
К сер. XIX века тема скита и мира, монашества и приходского духовенства обострилась, что сказалось на позиции автора. Суть в его отношении к миру и клиру.
В иноке в миру Алеше воплощен замысел «о христианине», который вполне реализовать в Мышкине автору не позволила историческая реальность и тип личности.
Экзистенциальныйстыд князя оказался глубже эмпирического знания греха, что привело его к гибели. Не в этом ли его слабость, выглядящая нравственной силой?
Но ситуацию резонней оценить в проекции силы, в слабости свершающейся.
На мировоззренческих критериях схлестнулись противники и сторонники князя.
Через ущербность героя, его социо-фурьеризм совершенно явственно проведена сверхценность Лика. Всепроникающий секрет и несокрушимое обаяние образа князя в том, что в нем скрестились полярные интуиции-искания автора в его выработке Идеала: Дон-Кихот из Ламанчи и «рыцарь бедный» на пути в Женеву Пушкина, Дульсинея и Дева Мария, Аполлон и Христос, Афины и Иерусалим (параллели можно длить долго). Это то, что Блок назвал «женственным призраком Христа», говоря о своих «Двенадцати»!
Так в поэтике Достоевского умозрительная диалектика Сократа и Лосева неизбежно перетекает в онтолого-личностный диалогизм Бахтина, когда диалог становится бытийным проявлением умозрительно диалектического принципа-метода).Князь стал важным этапом осуществления образа положительно прекрасного человека. Но праведное в князе идет от его природной чистоты; есть в нем черты мечтателя13. Он не так христоподобен, как христообразен, идеален, чем и вызвал нарекания. Автор знал этот тип, сам ему близок. Он от внешнего христообразия шел к усилению психолого-бытовой достоверности, к укоренению духовного в «почве».
Здесь понадобился опыт создания церковно-национальных типов благообразия, взятых из жизни народа. Герой призывает любить Бога в человеке; автор указывает на невозможность не полюбить человека во Христе. Об угрозе разделения и слияния Бога и человека во Христе он и предупреждает.
Создать в «Идиоте» тип жизнеспособного христианина ему не позволил недостаток опыта в этой сфере. Он побоялся реакции на скандально соблазнительного героя и из блистающего мрака священно-безумия вернул его во мрак клиники.
Духовное сиротство «князя Христа» (аналог земного одиночества Идеала) убило его; жертва оказалась невольная, потому не спасающая. Житейски достоверный, но страшный исход не вполне удовлетворил автора. Необходим был столь же реальный, но не вызывающий отторжения опыт; и жизнь его предоставила в лице оптинских старцев.
Так Г. Ермилова прямо связывает образ князя Христа с русским Христом14. Связь несомненна, но опосредована. Не зря автор не ввел сомнительное для него выражение в текст романа. Скандалы вокруг Зосимы и Алеши имеют перспективно разрешимый характер, тогда как князь при всей любви окружающих к нему оказывается обречен.
А.Е. Кунильский, безусловно, прав, когда открывает в «Идиоте» кеносис, безумие креста: князь, конечно же, юрод во Христе и визионер; но его озарения стихийны. И все же обнаружение в них Люциферова света неправомерно15, поскольку автор пишет не готический роман, отвергая рассудочную мистику и гностику кон. XVIII – нач. XIX вв., эстетику романтизма. Противостояние им в их же ареале и создает иллюзию родства.