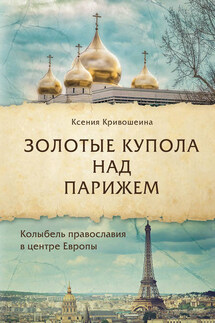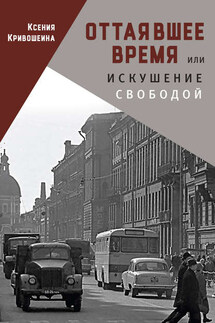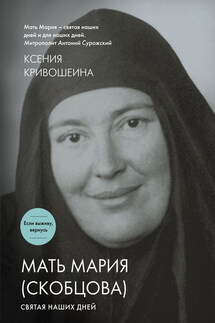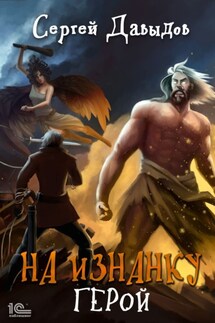Золотые купола над Парижем - страница 10
Необходимо отметить, что в настоящее время многие из потомков первой волны эмигрантов покинули Церковь.
Интеграция новых эмигрантов (которых, скорее, можно назвать мигрантами) из стран, где есть Русская Церковь, связана с большими трудностями. На Западе на них смотрят с некой опаской, или иногда даже с некоторым снисхождением. Подобное отношение, свидетельствующее о трудностях интеграции новоприезжих, можно часто наблюдать в Архиепископии Православных Церквей в Западной Европе (Вселенского Патриархата). Эта проблема заслуживает особого внимания, поскольку легко обвинять в трудностях интеграции самих новоприбывших: «Они, мол, не как мы». Но «разность» не может быть для Церкви поводом для исключения человека или разделения паствы на «своих и чужих».
К тому же создаётся парадоксальное впечатление, что нынешнее руководство Архиепископии хотело бы, чтобы Русская Церковь «не составляла ей конкуренции» в окормлении «новой паствы» и чтобы «юрисдикция РПЦ» покинула Западную Европу. С другой стороны, Архиепископия не имеет достаточного количества русскоязычных священников, способных понимать вновь прибывших и говорить с ними. Вот почему с ее стороны ощутимы попытки как можно быстрее «освоить» этих новоприезжих или привлечь священников – перебежчиков из Московского Патриархата.
Но известно, что переходы из одной юрисдикции в другую часто происходят после неких проблем в покидаемой юрисдикции. Причинами возникающих сложностей считают недостатки Русской Церкви, где, мол, священники подвергаются «произвольной власти епископов». Но на поверку оказывается (и мы знаем это), что реальные причины этих «переходов» чаще всего прозаические.
Со своей стороны РПЦ считает в равной степени своей обязанностью вести миссионерскую работу среди русских, покинувших свою родину; ведь именно так было до революции. И со стороны Архиепископии обостряется некая «конкуренция», возникает раздувание постоянного болезненного конфликта и напряженность в отношениях. Тогда как всем понятно, что в этой области единственно разумным решением было бы сотрудничество между обеими сторонами, каждая из которых внесла бы как вклад свой незаменимый опыт.
Сегодня видно, что первоочередная задача, которая стояла перед Архиепископией в отношении русской эмиграции, ею больше не выполняется.
Что касается реализации решений Московского Собора 1917-1918-гг., можно констатировать, что и здесь ситуация пришла в упадок. В Архиепископии кое-кто до сих пор придаёт большое значение тому, что миряне будто бы участвуют в жизни Церкви. Но внешность обманчива.<…> К тому же эти православные люди (прихожане Экзархата) думают, что Архиепископия, отрезанная от своих корней, идёт в никуда и уже не способна на истинное свидетельство о православной вере. Наоборот, в силу своей замкнутой обособленности она рискует потонуть в сектантстве, как это уже произошло с другими структурами, отрезанными от своих корней.
<…> Судьба Экзархата Вселенского Патриархата показывает, что он был верен своему призванию с начала своего существования до не столь давнего прошлого. Но условия его существования коренным образом изменились вследствие распада Советского Союза и наплыва новых эмигрантов из восточной Европы, и новой России. Он больше не является центральной православной структурой в Западной Европе и не может выступать от имени православного мира. Перемены, произошедшие после распада СССР и падения коммунизма, оказали сильное влияние на Экзархат, который погрузился в глубокий кризис, силы его поубавились. <….>»