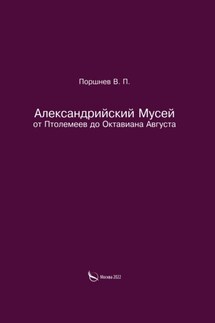Александрийский Мусей от Птолемеев до Октавиана Августа - страница 7
После стараний Кирхера идею создания подобия птолемеевского образца долго вынашивали интеллектуалы абсолютистской Франции, начиная со времени правления Людовика XIV, кумиром которого был Александр Македонский. Король-Солнце объединил своих учёных и мастеров свободных искусств, прибавив к учреждённым при его отце Académie française и Académie de peinture et de sculpture новые Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Académie d'architecture и Académie de musique. Хотя употребляемое во всех наименованиях слово Академия как бы указывало на Афины, «окормление», которое давала интеллектуальной элите страны королевская казна, более соответствовало традициям эллинистических монархий.
Академия надписей и изящной словесности (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), в отличие от итальянских кружков гуманистов, объединила в своих стенах уже не любителей античной литературы, но филологов-профессионалов. И если первоначально слово inscription указывало лишь на то, что её члены, помимо прочего, будут трудиться над составлением хвалебных надписей Людовику XIV, в следующем столетии учёные Академии уже всерьёз занимались эпиграфикой, нумизматикой, палеографией. Тем самым расширялся круг источников, на которых строилось изучение и таких древних учреждений как Мусеи и библиотеки. Результаты исследовательской деятельности регулярно публиковались в «Записках» (Memoires) Академии, доступных всем европейцам благодаря высокому статусу французского языка, потеснившего в международном общении классическую латынь. В IX-м томе академических «Записок», вышедшем в свет в 1736 году, были напечатаны труды Пьера-Николя Бонами, в их числе и прочитанная Собранию академиков пятью годами ранее диссертация, посвящённая Александрийской Библиотеке[18]. За ней следовали две работы, в которых учёный, прежде прославившийся изучением древних и раннесредневековых памятников письменности Галлии, подвергнув строгому анализу тексты Страбона[19] и Цезаря[20], представил читателю топографию птолемеевской Александрии, включив в неё собственную карту кварталов древнего города.
Сегодня этот анализ имеет даже бóльшую ценность, чем сама диссертация, поскольку Бонами впервые удалось, хотя бы приблизительно, в границах кварталов древнего города, локализовать его знаменитые сооружения. И те, что сохранились в руинах, и те от которых не осталось никаких следов. Бонами разделяет библиотеки Мусея и Серапея, располагавшиеся в совершенно разных кварталах[21]. Прежде филологов, видимо, вводил в заблуждение ещё один храм Сераписа, бывший, действительно, вблизи Мусея; его священный участок Страбон (XVII, 1, 10, C795) упоминает в одном перечне со священными участками храмов Исиды и Пана. Бонами помещает Мусей именно в восточной части города, где были царские дворцы. Он разделяет Мусей и Библиотеку, занимавшие разные здания (оставляя открытым вопрос об их территориальной близости: на приложенной к изданию карте они, хотя и помещаются близко, но не соприкасаются). Ведь сведения о пожаре Библиотеки при Цезаре явно указывают на её нахождение на морском берегу, тогда как Мусей с домом учёных, по мнению Бонами, следует локализовать дальше к югу от побережья. Продолжая традицию, идущую от Липсия, Бонами считает Мусей учреждением, возникшим при Библиотеке, производным от неё. В его интерпретации это было славное детище Птолемеев, сравнимое с парижскими Академиями. Весьма лестное для века Просвещения сравнение предназначалось как академикам, демонстрируя им античный идеал, так и королевской власти, чьей неустанной заботой должно стать процветание искусств и наук.