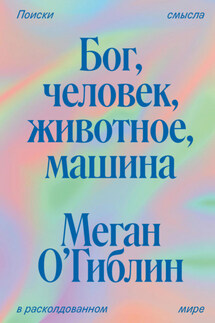Бог, человек, животное, машина. Поиски смысла в расколдованном мире - страница 11
Впрочем, долго его скептицизм не протянул. Уже через несколько дней муж называл Айбо по имени. Он отчитывал щенка, когда тот отказывался ложиться спать: «А ну давай, я тебе что сказал?» – как будто Айбо сознательно противился приказу. По вечерам, когда мы читали на диване или смотрели телевизор, он иногда нагибался, чтобы погладить щенка, едва тот начинал скулить: это был единственный способ его успокоить. Однажды я зашла на кухню и увидела, что Айбо уставился в узкую щель между холодильником и раковиной. Я заглянула в расщелину сама, но не увидела там ничего стоящего внимания. Муж заверил меня, что это нормально. «Оскар тоже так делал, – сказал он. – Он просто пытается понять, удастся ли ему туда забраться».
Хотя у нас есть склонность определять себя через сходство с другими вещами – мы говорим, что человек похож на Бога, или на часы, или на компьютер, – в нас живет и противоположный импульс, стремление отделять себя от окружающего мира. И в то время как компьютеры приобретают качества, которые люди когда-то считали исключительно человеческими, мы продолжаем передвигать планку, чтобы наша уникальность не пострадала. С первых дней существования искусственного интеллекта задача была в том, чтобы создать машину с разумом, подобным человеческому. Тьюринг и ранние кибернетики считали само собой разумеющимся, что человеческий разум – это прежде всего высшая мыслительная деятельность: хороший искусственный интеллект будет оперировать числами, обыгрывать человека в карты или шахматы и решать сложные теоремы. Но чем лучше искусственному интеллекту даются математические задачи и головоломки, тем упорнее мы отказываем компьютерам в наличии разума. Когда в 1995 году компьютер Deep Blue от IBM выиграл в шахматном поединке с Гарри Каспаровым, на философа Джона Сёрла это не произвело впечатления. «Шахматы – банальная игра, потому что о ней есть точная информация», – сказал он. Человеческое сознание, утверждал Сёрл, зависит от эмоционального опыта. «Волнуется ли компьютер перед тем, как сделать ход? Переживает ли он из-за того, что его жене наскучит долгая игра?» Так думал не только Сёрл. В книге «Гёдель, Эшер, Бах» (1979) профессор в области когнитивных наук Дуглас Хофштадтер заявлял, что игра в шахматы – это творческое занятие, подобное живописи или созданию музыки; она требует поистине человеческого разума. Но после поединка с Каспаровым его мнение изменилось. «Боже ты мой, я-то думал, что во время игры в шахматы надо думать, – сказал он в интервью New York Times. – Теперь я понимаю, что в этом нет необходимости».
Оказывается, компьютеры особенно хороши в задачах, которые кажутся нам, людям, самыми сложными: в зубодробительных уравнениях, сложных логических пропозициях и тому подобных абстрактных конструкциях. Самое трудное для искусственного интеллекта – это задачи, связанные с сенсорным восприятием и моторными навыками, которые мы осуществляем неосознанно: ходьба, питье из кружки, зрение, наблюдение за окружающим миром. Сегодня, когда машины бьют рекорд за рекордом в чисто интеллектуальных задачах, мы утешаемся тем, что убеждаем себя: настоящее сознание включает эмоции, восприятие, способность чувствовать и переживать, то есть все то, что мы разделяем с животными.
Если бы на свете существовали боги, они посмеялись бы над нашей непоследовательностью. На протяжении веков мы отказывали животным в сознании, потому что они не демонстрировали признаков высшей мыслительной деятельности. (Дарвин утверждал, что, несмотря на наше низкое происхождение, мы, люди, наделены «божественным разумом», отличающим нас от прочих животных.) Еще в 1950-е научный консенсус состоял в том, что шимпанзе, с которыми мы разделяем почти 99 % ДНК, не обладают сознанием. Когда Джейн Гудолл начала работать с танзанийскими шимпанзе, ее издатели были шокированы и возмущены тем, что в своих докладах она приписывала животным внутреннюю жизнь и использовала по отношению к ним «человеческие» местоимения. Перед публикацией редактор тщательно вычистил все неподобающие выражения: вместо «он» или «она» о животном следовало писать «оно», а вместо «кто-то из них» – «одно из них». По словам Гудолл, ей эта политика никогда не казалась убедительной. Даже ее преподаватели из Кембриджа не смогли разубедить ее в том, что она наблюдала собственными глазами. «В детстве у меня был чудесный учитель, который показал мне, что они неправы, – это была моя собака, – сказала как-то Гудолл. – Невозможно иметь друга и собрата в собаке, кошке, птице, корове – назовите здесь кого угодно – и при этом не понимать, что мы не единственные существа, наделенные личностью, разумом и эмоциями».