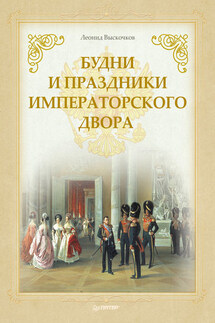Будни и праздники императорского двора - страница 51
При Павле I была восстановлена старая мода. Графиня В. Н. Головина сообщает, что во время коронации Павла I весной 1797 г. «все были в полном параде: в первый раз появились придворные платья»[263]. Имеются в виду робы, то есть кринолины, которые, казалось, давно сделала немодными Французская революция. В «Объявлении экспедиции церемониальных дел», относящемся, по-видимому, к декабрю 1796 г., предписывалось дамам иметь во время коронационных торжеств робы из черного бархата с таким же шлейфом и юбкой[264]. Однако на большие балы, как правило, надевали русское платье. На бал в Кавалергардской зале Гатчинского дворца 30 августа 1797 г. предписывалось прибывать «по учиненным накануне повесткам, дамы в русском платье, кавалеры в праздничных кафтанах, а штаб и обер-офицеры в мундирах и башмаках»[265]. На маленьких балах, а также во время «вечерних собраний» в Кавалергардской или Кавалерской комнатах допускались отступления от этикета. Тогда дамы были в обыкновенных, а не русских платьях[266].
А. Малюков. Портрет императрицы Александры Федоровны. 1836 г.
При Александре I русское платье было восстановлено в правах. Сопровождавшая прусскую королевскую чету в Санкт-Петербург придворная прусская статс-дама Фосс записала в дневнике от 9-го января 1809 г.: «Утром пришла графиня Ливен с портным Ея Величества императрицы-матери. Он снял с меня мерку для Русского платья, которое государь желает мне подарить». В два часа дня во время обеда прусской королевы на ней уже был «синий русский сарафан»[267]. 13 января в 11 часов в дворцовой церкви во время обручения великой княжны Екатерины Павловны с принцем Ольденбургским все прусские дамы «были в русских придворных платьях, подаренных нам самим царем»[268].
К 1810-м гг. относится портрет великой княжны Александры Павловны, написанный неизвестным художником[269]. Судя по кокошнику, в русском платье была и великая княгиня Александра Федоровна в Александро-Невской лавре во время богослужения в 1818 г. Описывая свое болезненное состояние, она между прочим заметила, что была «вовсе не интересна в… розовом глазетовом платье, с кокошником, шитым серебром, на голове»[270].
Глазет – ткань с шелковой основой и металлическим утком серебряного цвета, то есть разновидность парчи.
Коронационные торжества Николая I в Москве также предполагали русское платье. На 25 июля 1826 г. был назначен торжественный въезд императорской четы в Москву. В камер-фурьерском журнале осталась запись: «25-го сего июля пополудни в 4 часа для чего все придворные обоего пола… съезжаться в 3 часу пополудни в петровский дворец и быть дамам в русском платье, а кавалерам в праздничных кафтанах. За подписанием камер-фурьера Бабкина»[271].
В первых записях камер-фурьерских журналов за 1826 г. также неоднократно упоминается «белое русское платье» или «белое круглое платье».
В таком платье дамы должны были быть 1 января и 18 апреля на Св. Пасху, так же как и во время торжественного въезда в Москву 25 июля.
Писатель Ф. Ансело, находившийся в составе французской делегации на коронации Николая I, писал о предписании императора относительно костюма на маскараде: «Женщинам полагалось явиться в национальном костюме, и лишь немногие ослушались этого предписания. Национальный наряд, кокетливо видоизмененный и роскошно украшенный, сообщал дамским костюмам пикантное своеобразие. Женские головные уборы, род диадемы из шелка, расшитый золотом и серебром, блистали брильянтами. Корсаж, украшенный сапфирами и изумрудами, заключал грудь в сверкающие латы, а из-под короткой юбки видны были ножки в шелковых чулках и вышитых туфлях. На плечи девушек спадали длинные косы с большими бантами на концах»