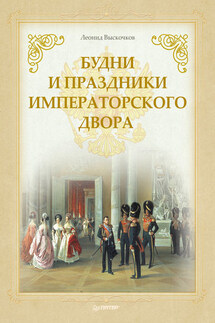Будни и праздники императорского двора - страница 53
В обычные воскресные дни и во второстепенные праздники имел место не большой, а малый выход, то есть кавалеры свиты – в обыкновенной форме, а придворные дамы в городских платьях, все же очень нарядных, собирались к обедне в маленькую церковь. Обедня начиналась в 11 часов, и после службы император и императрица, цесаревна и цесаревич принимали лиц, желавших им представиться, в прилегавшей к церкви зале, называемой ротондой»[281].
Несовершеннолетние великие княжны с некоторыми поправками следовали также общему стилю. Та же Ольга Николаевна вспоминает о крестинах родившегося 9 сентября 1827 г. великого князя Константина Николаевича за пять дет до указа 1834 г.: «К крестинам нам завили локоны, надели платья-декольте, белые туфли и Екатерининские ленты через плечо. Мы находили себя очень эффектными и внушающими уважение. Но – о разочарование! – когда Папа увидел нас издали, он воскликнул: "Что за обезьяны! Сейчас же снять ленты и прочие украшения!" Мы были очень опечалены. По просьбе Мама нам оставили только нитки жемчуга… Уже тогда я поняла его желание, чтобы нас воспитывали в простоте и строгости, и это я ему обязана свои вкусом и привычками на всю жизнь»[282]. Для несовершеннолетних княжон Николай I считал излишним не только трен (шлейф. – А. В.) и платье с декольте, но и Аннинские ленты через плечо. В 1833 г., когда той же Ольге Николаевне исполнилось 11 лет, положение несколько изменилось. Она с гордостью записала в своих воспоминаниях «Сон юности»: «По обычаю в одиннадцать лет я получила русское придворное платье из розового бархата, вышитого лебедями, без трена. На некоторых приемах, а также на большом балу в день Ангела Папа, 6 декабря, мне было разрешено появляться в нем в Белом зале (то есть на придворных балах. – А. В.)»[283].
В 1830-х гг. великие княжны стали надевать первые бархатные платья, произведенные на Фряновской шелкоткацкой мануфактуре купца-старообрядца Павла Назаровича Рогожина (Рагожина). «Ему мы, – записала Ольга Николаевна, – обязаны первыми бархатными платьями, которые мы надевали по воскресеньям в церковь. Это праздничное одеяние состояло из муслиновой юбки и бархатного корсажа фиолетового цвета. К нему мы надевали нитку жемчуга с кистью, подарок шаха персидского. Почти всегда мы, сестры, были одинаково одеты, только Мари разрешено было еще прикалывать цветы»[284].
Кокошники фрейлин бросились в глаза и маркизу де Кюстину в 1839 г. Впрочем, не отличавшийся влечением к женскому полу маркиз и в этом случае полон сарказма: «Национальный наряд русских придворных дам величественен и дышит стариной. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым»[285]. Отклонения от регламентированного фасона, как правило, не допускались. Когда на одном из балов в 1840-х гг. некоторые дамы появились в кокошниках из цветов, это вызвало гнев императора, хотя возможность использовать украшения и драгоценные камни оставалась.
К свадьбе Марии Николаевны в 1839 г. ее приданое по обычаю было выставлено в Зимнем дворце. По свидетельству великой княжны Ольги Николаевны, «в третьем зале – русские костюмы в числе двенадцати, и между ними – подвенечное платье, воскресный туалет, так же как и парадные платья со всеми к ним полагающимися драгоценностями, которые были выставлены в стеклянных шкафах: ожерелья из сапфиров и изумрудов, драгоценности из бирюзы и рубинов»