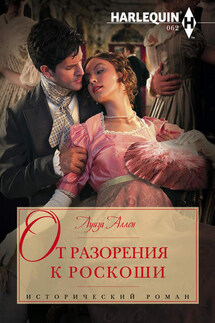Чехов и евреи по дневникам, переписке и воспоминаниям современников - страница 3
При столь высокой всеобщей оценке писателя нельзя сказать, что Чехов понят как целостное явление, еще шире – как феномен русской культурной жизни и как пример русской судьбы. Между тем в этом отношении он значим не менее, чем Пушкин или Толстой. Значительность, масштабность фигуры Чехова как-то не входят в сознание даже самых горячих его поклонников, Чехова как-то трудно назвать «гением». Его канонический образ – скромного, не лезущего на передний план человека – совершенно заслонил подлинное лицо Чехова. Но значительный художник не может быть «простым человеком» – «тихим» и «скромным»: новое содержание, им в жизнь вносимое, всегда – скажем так – революционно. Чехов – революционное явление, и не только как писатель (это не оспаривается), но и как новый тип русского человека, очередная ступень в движении русской жизни [ПАРАМ. С. 258].
Во многом именно по этой причине в России, ставшей на добрые 75 лет Союзом Советских Социалистических Республик, Чехова всячески пытались встроить в господствующую тогда в обществе идеологическую модель. Таковой являлось марксистско-ленинское учение, на основе которого его адептами для «инженеров человеческих душ»[5], было разработано своего рода методологическое пособие, получившее с легкой руки Иосифа Сталина [ГРОН. С. 336] название «метод социалистического реализма» [ДОБР].
Соцреализм, являясь «основным методом советской художественной литературы и литературной критики», обязывал художника в первую очередь заниматься «задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма». Советская литература, которая создавалась в рамках этого метода, должна была, в первую очередь, поучать: как жить, как работать, во что верить и кому доверять. В этом качестве она, несомненно, выступала законной преемницей классической русской литературы, которой также была присуща патерналистская поучительная идейность, берущая свое начало из Евангелий и наставлений Святых Отцов. Вот, например, цитата из сатирической сказки Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Ворон-челобитчик», которая, если не знать, кто ее автор, звучит вполне в духе советской орнаментальной прозы:
Посмотри кругом – везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет… Оттого каждый и ссылается на свою личную правду. Но придет время, рассеются как дым все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбе.
Можно даже говорить о некоем «тоталитарном ядре русской литературы», подразумевая под этим одержимость самых разных русских писателей – что в XIX, что в XX веке – задачей переделки человека, подчинения его тому или иному авторитарному началу и тем самым принесения в жертву свободы его личности [АГЕЕВ. С. 18].
Своеобразием русской классической литературы XIX в. стала ее идейность. Развиваясь в условиях отсутствия в стране свободы слова, собраний и печати, литература в России вбирает в себя философию, политику, эстетику и этику и таким образом становится ведущей формой общественного сознания.
У нас в изящной словесности да в критике на художественные произведения отразилась вся сумма идей наших об обществе и личности, – утверждал один из ведущих литературных критиков-шестидесятников Дмитрий Писарев [ПИСАР. С. 192]. Поэтому русская публика воспринимала литературу как явление общественного самосознания, а писателей – как, непременно, выразителей тех или иных идей, ее духовных учителей, защитников и спасителей.