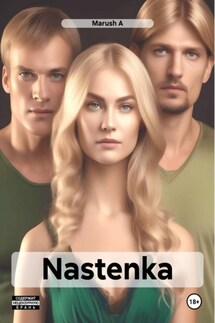Да, я девушек люблю, или Банда Селивана Кузьмича. Книга 2 - страница 38
Брюс достал из кармана сигареты, прикурил и, заметив в глазах Интеллигента ждущий интерес, продолжил:
– Я ему, этому вейлыкобриитайнцу второй вопрос: “Хапать то, что плохо лежит приехал?” Он кивает: “О ес! Я прилетел воспитывать вас, учить деловому уму- разуму”. Я с еще большим благородным чувством раздраженного патриотизма пытаю его: “И много вас, воспитателей, слетелось в Россию учить нас как жить?” “Много, много, – косноязычит он. – Вы, рашен, много болтайт, и ничего не делайт”. “А ты, полит- экономический педагог, – говорю, – знаешь русскую пословицу: “В чужой монастырь со своим уставом не суйся! Знаешь?” Он: “Не понимайт. Как, как?” Послал я его к заморской маме нашими народными словами, руками резкий жест сделал. Охрана его подскочила. Я гордо развернулся и пошёл дальше. На выпивку сообразить с ним побрезговал. Какой из него собутыльник.
– Я тоже увлекаюсь хобби. С раннего детства собираю бутылки, – подал голос Бутылкин.
– А я был знаком с одним заведующим детского сада, – протиснулся в беседу Карапузькин. – Он собирал детские игрушки- погремушки и соски. Пятнадцать мешков хранил в своём доме. По воскресеньям высыпал их на пол и до вечера играл с ними.
– Дружил, я две недели с одним пожарником, – выглянув из- за спины Бутылкина, обратил на себя внимание Тарзан Робинзонович. – У него была яростная страсть к собирательству “бычков”. На полочках вдоль стен в его квартире покоились сотни окурков от папирос и сигарет, а четыре окурка от папирос “Герцеговина Флор”, которые Сталин курил, и “Три богатыря” с ментолом лежали на самом почётном месте – в зеркальном серванте. Там же были огрызки от гаванских сигар. Отдельной гордостью его коллекции среди самокруток – «козьих ножек» был “бычок”, начинённый ослиным дерьмом. Его он купил у мальчишек в степном казахском ауле. А сколько у него было сортов махорки – он сам затруднялся ответить. Из- за нелепой оплошности пришёл конец его счастью. Принёс он домой непотушенный окурок иностранкой сигареты – и произошел пожар. Вся его коллекция сгорела вместе с домом. Увы: буйное помешательство с горя – и второй год лечится пожарник в тихом учреждении с охраной.
Селиван Кузьмич запел песню о двенадцати разбойниках, про атамана Кудеяра, остальные аккуратно подпели ему. Кончив петь, Брюс улёгся поудобней и принялся вспоминать “героически” померших от водки своих собутыльников:
– Васька Недотёпин хорошо пил. Подох, так сказать, на посту – за углом магазина: там всегда страждущие собирались сообразить на троих. Генка Тельняшкин прекрасно пил. Не дали ему похмелиться он и отдал Всевышнему душу. Сосед, коммунист, Антип Георгиевич – уснул под забором и не проснулся. Дед Глоткин тоже от неё, любимой, придавленный обрушившейся поленницей, принял вынужденную смерть. Он в ней припрятанную бутылку самогонки искал. Друг мой босоногого детства, Яшка Верхтормашкин… Бродячая цыганка нагадала ему гибель от бодучей коровы, а он пьяный, наступил на грабли, получил черенком в лоб – и был таков на тот свет. Верь после этого гадалкам… А ты помнишь, Рембо, – толкнув ногой, окликнул он дружка и усмехнулся. – Помнишь сапожкника Гаврилу Конца. Фамилия у него такая была. Как по телефону позвонит – все на пол падают, впав в веселье. Кричит в трубку: “Алё, здесь Конец говорит! Что? Конец! Конец, говорю! Позовите Свету Конец, жену! К телефону позовите!… Что? Нет у вас конца света? А где жена? Да пошёл ты сам туда!” Помнишь, Рембо, как он концы откинул?