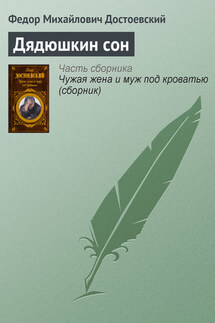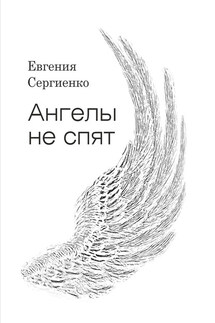Даурия - страница 54
На крыльце станичного правления, провожая партию, стоял окруженный писарями Лелеков. Он, показывая писарям кивком головы на старого бродягу и Семена, съязвил:
– Рыбак рыбака видит издалека.
21
Из каталажки Семена выпустили через неделю. Заметно осунувшийся, заросший черным колючим волосом, вышел он из станичного правления, где битый час распекал его на прощание Лелеков. Он сделал вид, будто не знал, что Семен Забережный георгиевский кавалер; по его словам выходило, что простой казак тут и годом тюрьмы не отделался бы.
До Мунгаловского было шесть верст. Семен решил поторапливаться, чтобы попасть домой по утреннему холодку. За воротами станичной поскотины он разулся, расстегнул рубаху. Кругом зеленели на склонах сопок всходы пшеницы. Дорога зигзагами уходила на перевал. За свою жизнь Семен вдоволь находился и наездился по этой дороге. Он знал на ней каждый камень, каждый поворот. С любым бугорком и кустиком были связаны у него незабываемые воспоминания. Однажды, еще мальчишкой, нашел он здесь серебряный рубль – целое состояние. Месяц носил он его в кармане, не зная, на что истратить. Картуз на шелковой подкладке, ножик с перламутровым черенком и розовые пряничные кони в чепаловской лавке одинаково были желанны. А кончилось тем, что загулявший отец взял у него этот рубль и пропил… Вот здесь, на раскате, их с Аленой чуть не вытряхнула из кошевы лихая пара, когда они ездили венчаться в орловскую церковь. А вон у тех кустов, что чернеют на седловине перевала, поцеловал он последний раз Алену, когда погнали его на войну. «Либо грудь с крестах, либо голова в кустах», – наказывал ему на проводах отец. Бедный старик, это он на людях храбрился. Маленьким жилистым кулачком поминутно утирал он в тот день покрасневшие глаза и всем говорил, что в глаз ему попала соринка… Дважды раненный, в шинели, пробитой пулями в девятнадцати местах, возвращался по этой дороге Семен с японской войны. Где-то вот тут и повстречал он Никулу Лопатина. От него и узнал, что мать с отцом приказали долго жить… Эх, да разве вспомнишь все, что пережито и передумано на этой дороге! Не раз, глядя отсюда на расстилающиеся вдали поля, напряженно размышлял он о том, почему на такой богатой земле люди бьются, как рыба на берегу.
«И это не только у нас, – думал он. – В Маньчжурии вон разве лучше живут люди? Насмотрелся я на маньчжуров-то. Тоже маются, как быки в ярме… Разве работать они не умеют? Работают, да еще как! А ведь тоже одни штаны по три года носят… Отец-покойник, бывало, учил меня: «Коли сам плох – не подаст Бог». Ну и ломил я тогда напролом, надрывался и на своей, и на чужой, батрацкой, работе. Зимой и летом ни разу не застало в постели солнце. Не щадил я тогда ни себя, ни других. Никогда себе не прощу, как мучил Алену. Она, сердечная, на сносях была, а я ее погнал в лес бревна валить. Там и скинула, у горелого пенька. Дорого ей мое самодурство стоило, чуть было на кровь не извелась. А что из всего этого вышло? Как говорится, хомут да дышло. Только оперились малость, только жить начали, как на службу идти пришлось. Справляй, казак, всю казачью справу – строевого коня, седло, обмундирование, – а на какие шиши? За семь-то лет все и пошло прахом. Отец опять на чужие поля работать пошел, так в батраках и умер… Правда, можно было вернуться и со службы с деньгами, кабы потерять там свою совесть. Подвертывалось ведь счастье, когда Никифор Чепалов ворованные деньги мне сунул на сохрану. А я даже и не подумал об этом. Да и теперь не жалею, что уплыли те деньги мимо моих рук. Только вот жалко, – махнул он в сердцах рукой, – что не вывел я Никифора на чистую воду».