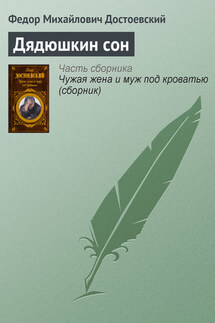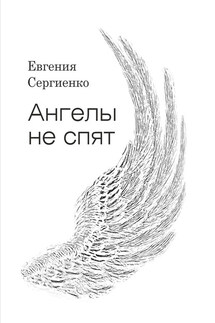Даурия - страница 67
Так продолжалось до тех пор, пока не началось, с экспедиции капитана Невельского, завоевание Амурского края. Далекий Амур, обширное царство «Пегой орды», давно манил к себе русских. Еще в середине семнадцатого века смелый опытовщик Ерофей Хабаров с ватагой якутских казаков пришел на Великую реку. Разбив дауров, занял он город Албазин и построил на его месте укрепленный казацкий острог. Из Албазина Хабаров спускался в низовья Амура, брал и зорил даурские крепости, облагал население ясаком. По его следам пришли на амурские берега приказчики и воеводы. Тогда-то под Албазин неожиданно и нагрянуло многотысячное китайское войско при ста пятидесяти пушках. Казаков в Албазине оказалось не более двух-трех сотен. Воевода Толбузин, выговорив у китайцев право своему малочисленному отряду беспрепятственно удалиться, сдал Албазин. Китайцы сожгли казацкий острог до основания и уплыли обратно. Осенью в том же году, получив подкрепление в Нерчинске, Толбузин вернулся на Амур, восстановил острог. Через полгода снова явилась семитысячная китайская армия с множеством пушек и обложила Албазин.
В то время впервые в Пекин был послан русский посол Головин. Китайцы на время сняли осаду Албазина, но в Срединное царство, к богдыхану, Головина не допустили. Китайские уполномоченные с большим войском прибыли в Нерчинск. Головина вынудили пойти на уступки. После долгих переговоров был подписан Нерчинский договор, по которому Амур оставался за китайцами. Границей были признаны Аргунь и Становой хребет. Однако русские не помирились с потерей Великой реки, являющейся ближайшей дорогой в Охотский край и Камчатку.
Для обратного захвата Амура и было создано, по царскому повелению, Забайкальское казачье войско. Государственные и горнозаводские крестьяне Забайкалья в 1851 году стали казаками. Потерянное прадедами казачье звание и обрели тогда снова мунгаловцы. Старые забайкальские казаки, которые были прямыми потомками дружинников Ермака Тимофеевича и давно несли дозорную службу на китайской границе, долго не могли помириться с тем, что уравняли их с бывшими каторжниками и поселенцами. К новым своим собратьям относились они крайне презрительно и смеялись над ними: «Курица не птица, мунгаловец не казак».
В 1901 году мунгаловцы, как и большинство казаков четвертого отдела, ходили в пеших батальонах на подавление боксерского восстания в Китае, а накануне русско-японской войны они были перечислены из пеших казаков в конные. Во время войны служили они в Аргунских полках и 2-й Забайкальской казачьей батарее.
Еще после Амурского похода щедро наградили их за верную службу из фонда кабинетских земель пахотными, лесными и сенокосными угодьями. Припеваючи зажили многие из них. На целинных распаханных землях снимали они богатые урожаи пшеницы, ставили в падях сотни стогов и зародов сена. Приходила к ним наниматься в работники голь перекатная из обделенных землей крестьянских деревень, жители которых, бывшие горнозаводские рабочие, были не в пример им обойдены монаршей милостью. «Жерновами» и «гужеедами» дразнили они при встречах крестьян. Мунгаловские покосы тянулись на двадцать верст и доходили до самой поскотины деревни Мостовки, жителей которой ежегодно тянули они к ответу за потраву своих лугов.
В этом году разбивку покосов на паи начали в последнее воскресенье перед Петровым днем. На разбивку поехали Елисей Каргин и писарь Егор Большак с двумя понятыми. Из поселка они выехали еще до солнца, зябко поеживаясь на заревом холодке. Вымахавшие в тележное колесо травы были покрыты росой, в низинах перекликались перепела. У полосатого столба, за поскотиной, Каргин попридержал коня, повернулся к понятым – Северьяну Улыбину и Платону Волокитину: