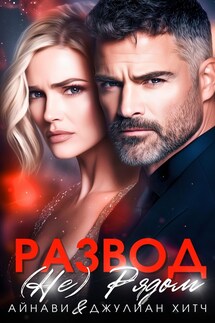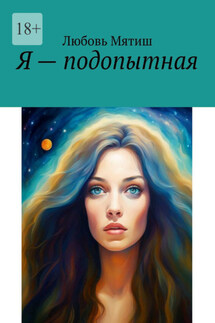Деревенщина для голубки - страница 8
Тётя Люда идёт вдоль кромки поля, я — за ней. Назар замыкает нашу процессию. Наверное, со стороны мы смотрится странно, но удивляться особо некому. Пока шли до поля, встретили всего пару человек. Да и то на подвипившего — и это в шесть утра! — мужичка тётя Люда так шикнула, словно на нашкодившего кота.
— Ну вот, — останавливается наша предводительница, — вчера мы тут с Назаром закончили. — Осталось-то всего-ничего. До полудня точно управимся.
Я оглядываюсь назад — на этот раз конец поля гораздо ближе, но всё равно расстояние до него вгоняет в уныние.
— Вот, смотри, как надо. — Тётя Люда, немного наклонившись, начинает тяпкой стучать по земле вокруг куста картошки.
Постепенно земля взрыхляется, и она подгребает её к центру, будто хочет укутать кустик в одеяло. И зачем это? Наверное, чтобы лучше росло?
Перехватываю тяпку, пытаясь повторить увиденное, но получается откровенно плохо. Тяпка норовит выскользнуть из рук, поясница быстро затекает. Пока я вожусь с одним кустом, тётя Люда успевает обработать три. Я даже ей немного завидую — столько кипучей энергии в этой уже совсем немолодой женщине! Собственные творческие муки начинают казаться пустыми метаниями. Как-то в минуты уныния, когда муза в очередной раз вертела хвостом, я написала пост об отстуствиии настроения и «почти депрессии». Тогда мне прилетел комметарий, что «Это всё от безделия. Вот раньше людям некогда было впадать в депрессию, потому что они в поле или на заводах пахали, а не на клавиши наманикюренными пальчиками нажимали». Тогда этот комментарий я сочла обесценивающим, но сейчас начинало казаться, что доля правды в нём имелась.
Я окучиваю три куста, и руки начинают гудеть от напряжения. Тяпка — инструмент совершенно неудобный! Я снова и снова перехватываю её, но та будто живая — змеёй так и норовит выскользнуть из пальцев.
— Голубка, — зовёт меня Назар.
Я разгибаюсь и оборачиваюсь. Он стоит в паре шагов от меня.
— Что? — нехотя отзываюсь.
— Неправильно инструмент держишь.
— Разберусь, — возвращаю внимание картошке.
Никогда больше даже смотреть на неё не буду!
Вернуться к работе не успеваю. Поверх моих рук ложатся крепкие мужские ладони.
— Не сопротивляйся, голубка, — говорит мне в ухо. И отчего-то я подчиняюсь. — Скоро кровавые мозоли появятся. И всё без толку. Ты же не окучиваешь, а издеваешься над несчастной картошкой и окружающими.
— Окружающими?
— Смотреть больно.
— Так не смотри! И отойди!
Я снова ловлю себя на том, что от его близости учащается сердцебиение.
— Одной рукой перехвати черенок. — Назар делает вид, что не слышал моих последних слов. — Крепче, — командует он. — Нежность прибереги для постели.
Держать тяпку становится удобнее. Теперь я смогу хорошенько ему врезать, если не прекратит своих грязных намёков!
Но Назар отступает, разглядывая меня так, будто скульптор, оценивающий своё произведение искусства.
— Хоть сейчас на плакат об ударнице труда.
— А тебя куда? На плакат к тунеядцам? Что-то ты не особо торопишься работать. Тётя Люда скоро сама всё сделает, пока ты вокруг меня трёшься.
— По-твоему, я плохо работаю? — Назар недобро прищуривается.
— Ну почему же? Ложкой за столом ты за двоих управлялся. Как ты там говорил? Работников сначала за стол сажали, и если они хорошо ели, значит, надо брать. Дурацкая, выходит, это проверка. Зря на тебя продукты тётя Люда переводила.