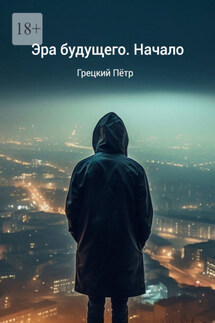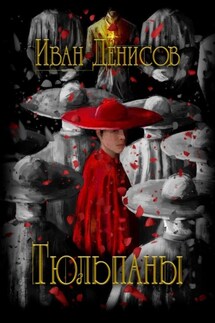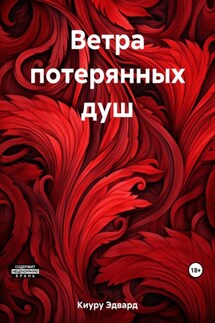Дом над бездной. Часть вторая. Большой десант - страница 19
– Ну, виноват, – сказал Ангие. – Наверное, действительно, на меня так подействовало солнце. Дайте поесть, наконец!
Доржи понравился сладкий рё – он выпил две босивары.
Утром над базой висело чистое глубокое небо. Солнце только выползало из-за Двуглавой горы, но снег уже сверкал миллионами игл. Вингун завтракал в одиночестве – проспал.
– Где наш гость? – спросил он у Йагу.
– Кормит животное. Оно называется хаки. Или гаки.
Дежурный включил наружную камеру и вывел изображение на информационное Синее Зеркало. Доржи в распахнутой шубе и сдвинутой на затылок шапке стоял у своего животного с большим кожаным мешком, из которого торчала сухая трава. Хаки (или гаки) время от времени совал морду в мешок и выдергивал губами траву. Потом задирал рогатую голову и смешно жевал – совсем как обоси, которых Вингун насмотрелся в детстве в деревне у деда. Значит, и здесь, в холодных горах, есть места, где растет трава на сено. Скорей всего, внизу, в долине. Теперь Вингун разглядел животное как следует – приземистое тело покрывало настоящее одеяло из длинной густой шерсти. Вот почему хаки не боялся снега и холода.
Почти все члены экспедиции окружили животное и наблюдали, как хаки ест. Был тут и Ангие в светофильтрах. Он разглядывал пучок травы и нюхал. Вингун понял, что слепота у картографа прошла. Дети, подумал недролог.
Покончив с завтраком, Вингун тоже вышел наружу. Доржи уже завязал мешок и устраивал его на спине хаки. Глаза тирца укрывали от резкого света деревянные очки. Завидев Вингуна, Доржи поклонился, взял руку недролога и потряс, что-то оживлённо говоря.
– И ты не болей, Доржи, – сказал Вингун. – Будешь в наших краях, заходи в гости.
Тирец уселся на хаки, похлопал того по шее, и животное довольно резво пошло по заметённому снегом увалу к озеру. Недролог проследил, как всадник движется по берегу, постепенно уменьшаясь. Наконец Доржи и его хаки исчезли за скальным выступом.
Вингун не знал тогда, что им ещё придётся встретиться…
Приём в Академии наук
Столицу решили строить на острове Аталана-Тите. Остров был огромен – настоящий континент, растянувшийся от сороковой широтной линии до тридцатой. Командора сразу привлекло его хорошее стратегическое положение – как раз посредине между материками Йеропи и Аталана.
Высокий хребет на северной оконечности острова закрывал Аталана-Тите от северных ветров. Горные цепи, постепенно понижаясь, образовывали полукольцо, в котором располагалась обширная долина, уходящая к южной части острова. Климат здесь был субтропический – тёплый и влажный. Цепь мелких островов связывала Аталана-Тите с обоими континентами, поэтому здесь издавна селились люди. Тирцы называли остров Симау, что на одном из северных наречий материка Мисур значило Зелёная земля. Больших поселений на Симау не было – в основном, рыбачьи деревушки по берегам да охотничьи становища в предгорных лесах. Аборигены встретили йеропцев поначалу настороженно – вероятно, боялись, что те захватят промысловые места. Но потом, когда убедились, что пришлые не покушаются на прибрежную акваторию и охотничьи угодья, буквально потеряли к ним интерес. Это вызвало у йеропцев сложное чувство – смесь разочарования и некоторой обиды. Ну, как же – прилетели старшие братья с другого конца Большого Мира, а младшим до них и дела нет… Впрочем, рассудил Шигэцу, это было к лучшему: тирцы не мешали осваивать остров. Правда, иногда они приходили в строящуюся столицу, подолгу стояли маленькими группками у котлованов и растущих корпусов, наблюдая и немногословно переговариваясь. Вероятно, они плохо понимали, что происходит, но не боялись йеропцев.