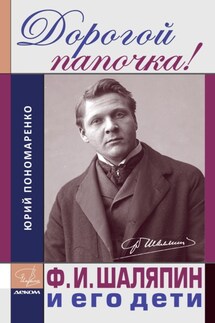Дорогой папочка! Ф. И. Шаляпин и его дети - страница 39
В прологе, пригвожденный к скале, он казался вросшим в нее, окаменевшим.
Если внешний облик Демона подсказал Шаляпину Врубель, то внутреннюю силу и мощь он взял у Лермонтова.
Лучшим моментом в спектакле была сцена у врат обители. Исполнение Шаляпиным этой сцены вызывало такой бурный восторг у зрителей, что на «бис» она повторялась полностью.
Глубоко, властно и сильно произносил Демон: «Здесь я владею…» – и вдруг неожиданно мягко, с глубокой тоской и болью: «…Я люблю».
С какой сокрушающей силой звучали слова: «И я войду!!» И с каким стоном радости и торжества, как вихрь, исчезал он в дверях обители: «Она моя!»
Врываясь в келью Тамары, Демон останавливался, как изваяние. Горели его глаза на бледном от страсти лице, и Тамара в смятении отступала:
«Кто ты??!»
И вдруг тихо, таинственно, умоляюще начинал он петь:
«Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине…»
И вот, наконец, клятва. Стихийной мощью звучала она:
«Клянусь… клянусь…»
Незабываемое впечатление производила фраза:
«Земное первое мученье и слезы первые мои…»
Да, это были впервые пролитые жгучие «человеческие» слезы…
Можно смело сказать, что «Демон» – одно из гениальнейших творений Шаляпина.
Борис Годунов
Самыми трудными днями для нашей семьи были дни концертов и спектаклей отца. В такие дни он очень нервничал, тут уже надо было стараться не попадаться ему на глаза. Нам, ребятам, в эти минуты иной раз доставалось ни за что ни про что. Но мы не обижались, зная, что причиной этого – сильное нервное возбуждение отца перед спектаклем.
Так было и в тот день, о котором я пишу. С самого утра он, «попробовав» голос, решил, что он не звучит; дальше пошли жалобы на «судьбу», на то, что никто его не понимает, не сочувствует, что публика ни за что не поверит его недомоганию: «Даже если бы я умер, все равно не поверили, сказали бы – кривляется».
Своему секретарю и другу Исаю Дворищину отец заявил, что петь не может – болен, и просил его немедленно позвонить в Большой театр и отменить спектакль «Борис Годунов». Исай в ужасе вышел из его спальни.
Увидев его в коридоре расстроенного, я спросила:
– Что случилось?
– Отказывается петь Бориса. Что же это будет?
– Исай Григорьевич, умоляю вас, воздействуйте на папу, вам это иногда удается лучше, чем кому-либо.
– Нет, сегодня ничего не помогает, никакие мои «номера» не проходят, сердится, нервничает… Удеру-ка я в Большой театр, но отменять ничего не буду, подождем до вечера.
И Исай – удрал!
Мрачно побродив по комнатам, подразнив Бульку и сыграв несколько партий на бильярде, отец успокоился и часа за два до спектакля подошел к роялю и стал распеваться.
Я потихоньку подошла к дверям зала, прислушиваясь. Голос отца звучал хорошо. Вдруг он встал, вышел на середину зала и спел первую фразу из партии Бориса Годунова: «Скорбит душа…»
Эта фраза для него всегда была камертоном к «Борису Годунову». Если она у него звучала, он спокойно шел петь.
– Исайка! – вдруг загремел отец на всю квартиру.
Я вошла в зал.
– Исая нет, он уехал в Большой театр отменять твой спектакль.
Отец растерялся.
– Неужели отменять?.. Знаешь, голос-то звучит недурно, я, пожалуй, спел бы, – проговорил он с виноватым видом.
– Ну и знает же тебя Исай! – рассмеялась я. – Представь себе, он спектакля не отменял, а просто скрылся с твоих глаз, чтобы ты его не терзал…
– Молодец Исай, – радостно воскликнул отец. – Ну, тогда… Василий, одеваться!