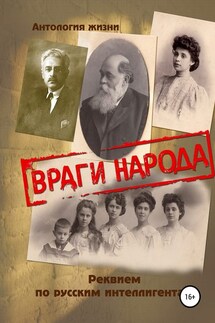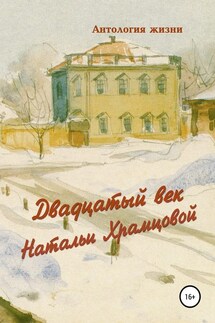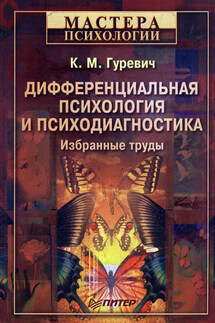Двадцатый век Натальи Храмцовой - страница 17
А дальше эта коммуналка начинает наполняться совершенно по русской сказке «Теремок». Во-первых, один из чуланов превращается в комнату. И там живёт моя воспитатель Елизавета Яковлевна Яковлева. Кто дальше получают у нас жильё? Работники НКВД, их было трое, получили по комнате. И деревня, которая бежала от «года великого перелома».
Результаты, которые мы почувствовали сразу: перестала действовать уборная и не работает ванна. Потому что спускали туда всё подряд. (Да, у нас была ванна, и в баню я пошла с мамой, когда мне было лет десять).
На кухне было семь хозяек. Скандалов не было, было спокойно. Но когда говорят, что коммуналки жили как одна семья – это враньё.
Приток деревенских был такой явный, что даже в школе от девочки из семьи военного я слышала по отношению к другим: «Деревенщина!» (Даже детская аудитория это чувствовала).
Горожане жили тихо (обыватели они и есть обыватели): кто играл в преферанс, кто в шахматы. Все читали.
23 декабря 1997 года. Наталья Сергеевна – А.С. Бутурлину в Москву.
(…) Солженицына читала долго, с огромным интересом, но и злилась на него. Верующий человек, но милосердия – никакого, главное – его труды, ради того, чтобы их сохранить, рисковал жизнью и свободой таких людей, как Л.К. Чуковская… Любит Достоевского, а ведь тот риск, которому подвергал людей ради идеи не та ли самая «слеза ребёнка», которую нельзя пролить даже во имя счастья человечества! И ему никого не жалко, даже своих мальчиков. Прямо как ненавидимые им большевики.
Но люди шли за ним и рисковали – он был первым, кто заговорил так об их муках и муках миллионов своих сограждан.
(…) История русско-польской графини удивительна, спасение – чудесно. Господи, сколько же мы зла причинили не только своему, но множеству народов и ещё считаем, что нас кто-то должен любить. И ещё удивляемся: за что это Бог нас так наказывает? Нет в народе покаяния – правильнее, наверное, раскаяния, – наготове всегда оправдание: это не мы храмы рушили, кладбища разоряли, начальники были. И что иконы на растопку шли, не виноваты, в избах всё равно вешать не велели. И мужички, устав от грабежей барских усадеб, равнодушно поглядывали на поругание и Бога, да и своего брата-мужика.
И самое главное – ведь хотят назад, к равенству в нищете…
Я с этими «гражданскими мотивами» никогда не кончу. Злая иногда бываю, зря, конечно. Недавно была у меня старая знакомая, знала её прелестной девчушкой, жила в соседнем доме. Теперь Таня молодая, умная, весёлая жена талантливого математика князя А. Хованского, мама двух взрослых дочек и бабушка очаровательных внуков. Живёт то в Москве, то в Торонто, в Ульяновск приехала к маме. Среди оживлённого разговора обо всём – от внуков до М. Цветаевой – вдруг проникновенно сказала: «Как хорошо здесь!» Я: «Где? У мамы? У меня?» Таня, тихо: «В России».
Может быть, правда, что «большое видится на расстоянии»?
Спасибо, что вспоминали обо мне, слушая Б.Ш. Окуджаву. Он удивительно мой человек – поэт-бард-писатель. После его смерти я ясно поняла и почувствовала, что живу «чужой век». Ведь я много не понимаю, когда смотрю в «ящик» или слушаю радио. Самое главное – и понимать не хочется (…)
После «Телёнка» и «Записок об А. Ахматовой» (III том) переключилась на лёгкое чтение. «Королеву Марго» читаю с тем же увлечением, как 55 лет назад – под партой, на уроке химии.
(…) Конечно, друзья – это заслон от всяческой современной мерзости, и вы правы – новых уже не «завести». Старые уходят навсегда. Я когда-то радовалась, что вокруг было много близких людей лет на 20 моложе меня. Увы, большинство – изменились: идёт борьба за выживание, «лозунг» «возьмёмся за руки, друзья» – еле дышит. Хватило бы сил на обустройство собственного семейства. Я их не виню. Жалко просто. И вкусы, увы, меняются, и всё в худшую сторону.