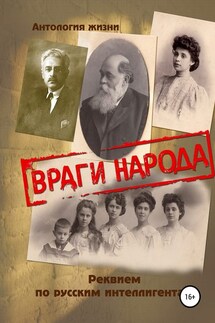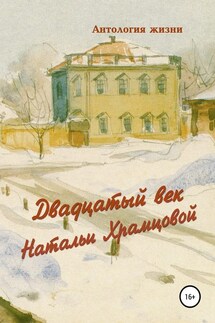Двадцатый век Натальи Храмцовой - страница 18
Считаю, что сейчас волю к жизни, радость и утешение может дать только настоящее и вечное – нет Пушкина, нет Бенуа, Ахматовой, нет Ф.Г. Раневской и З.Е. Гердта, нет Окуджавы; живы Д.С. Лихачёв, А.И. Солженицын. И даже если они уйдут раньше или позже (умер же И. Бродский в свои чуть за 50!) – они будут с нами. Никто и ничто не отнимут, их нельзя купить, как газету или журнал!
Сейчас идёт цикл о Нобелевских лауреатах, жалею, что пропустила начало, а вот о Шолохове, Солженицыне и Бродском были очень хорошие. (Об Александре Исаевиче повторяли Радзинского).
Читаю подаренную книгу воспоминаний М. Козакова – правдиво, многое, в общем, интересно, но это такой антипод «Дневнику» Нагибина – с его безудержной злостью, беспощадностью (и к себе – в первую очередь!) и какой-то расхристанностью внутренней. Мне гораздо ближе Козаков. А талантливее Нагибин…
Ильенкова я тоже не читала, но рассказ о козе, которую собственноручно, палачески убивал «защитник русской природы» Леонов потряс. Теперь точно знаю, что ни одной его книги в руки не возьму – побрезгую. Дома, слава Богу, его произведений нет. А вот Ф. Панфёров, избивший солдата, не удивил. Он же как чукча из анекдота – «писатель, а не читатель». Его же читать невозможно, я литфак провинциальный, правда, но в лихие годы кончала, когда Панфёрова «велели» изучать. Три раза за «Бруски» принималась, но дальше 17-й стр. (там штамп библиотечный был) – не смогла. Он – тварь и хам, из тех самых, что «из грязи в князи».
А у меня сейчас хорошее и немного грустное настроение: приезжал из Москвы мой бывший ученик, очень не типичный для своего поколения 30-40-летних – увлечён хорошей бардовской песней, приходит ко мне на всю ночь с гитарой и поёт до «первых трамваев». Познакомила с Андреем моих приятельниц – Ляле за 60, Гале к 50-ти. И они его полюбили и слушали тоже до утра.
И ещё бывший ученик смутил и порадовал меня подарком, авансом к грядущему 70-летию: подарил магнитофон и 3 плёнки записей Окуджавы. Мне было неловко принимать такой дорогой подарок: после такого обычно женщине делали предложение, называемое в старину «гнусным», или вынуждали работать в «органах» либо в иностранной разведке. Нет, не предложил (…)
– Ссыльных было много. Причём, часто ссылали не в Ульяновск, а куда подальше. Помню, к нам приезжала из Мелекесса папина приятельница Татьяна Шмидт, которая была в какой-то партийной организации на льнокомбинате. И она папе в ухо шептала: «У нас сосланных полно…»
Говорят, что сюда был сослан наш преподаватель языкознания (в пединституте) Бескровный. Как можно преподавателя русского языка выслать за украинский национализм, я не знаю. Говорят, что выслали. Боялся он всего, совершенно смертельно.
Задолго до войны сюда был выслан доктор (сейчас бы его назвали психотерапевт, тогда называли просто гипнотизёр) Могулá (даже фамилию запомнила). Пионервожатая моего братика (который был не всегда дисциплинированным), такая была Дуся Велина, ей надо было делать какую-то полостную операцию. А у Дуси было больное сердце, и к ней пригласили этого самого Могулу. Потом она была у нас дома и рассказывала, как прошла операция (мне было страшно интересно). Когда операция кончилась, она пришла в себя и спросила: «Я лежу в больнице, а когда же мне будут делать операцию? Вы знаете, я сейчас была в таком дивном саду, цвели все фруктовые деревья и был такой запах, что у меня даже голова чуть-чуть кружится. Ну давайте уже, режьте».