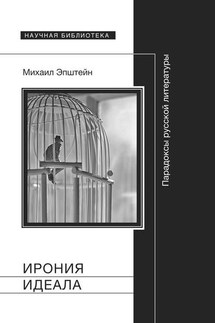Энциклопедия юности - страница 55
Больше всего в моих дневниках – самокопания и самобичевания. У поэта Николая Ушакова есть такие строки: «Мир незакончен и неточен – /поставь его на пьедестал /и надавай ему пощечин, /чтоб он из глины мыслью стал». Мой юношеский дневник – это нескончаемые пощечины, которыми я превращал себя из вязкого месива в некую мысль.
А вот одна из последних записей – примерно за два месяца до того, как по-новому повернулась жизнь, вышла на взрослые рубежи:
3.12.74.
«Нет выше радости, чем радость чтения своего дневника человеку, в котором твой процесс вочеловечения получает свое завершение. Человек, которому можно без стыда читать свой дневник, – это и есть тот человек, ради которого мы вочеловечиваемся, это и есть свет для нашей тьмы, как мы – тьма для его света… Нет ничего выше той радости, в которую мы обращаем свой стыд. ‹… › Вот – дневник; теперь нужно найти человека, которому я мог бы его прочитать. Поставив точку, отправляйся на поиски человека».
И мне было те же одиннадцать, когда я купил себе записную книжку и карандаш. Это было в минском аэропорту перед вылетом в Ленинград на самолете «Ил-12» (такой же здесь разобьется через год).
Поездка не планировалась, а была внезапной. Дед заболел. Я не знал, насколько это было серьезно, но мама, меня провожавшая, была печальна и смотрела в высокие окна на бетонные плоские дали и самолеты. В буфете сказала: «Александр Васильич мне заменил отца».
Положим, это было преувеличением, но меня в тот момент снова охватил интерес к ее родному отцу – все же второму моему деду. Кто он был и что с ним стало? Годами добивался, и вот сейчас мама сдалась. Тайна ее отца открылась за одноногим столиком, у которого мы стояли. Какао был еле теплый. На мрамор, на торговую кальку, был отложен коржик, который было ни маме, ни мне не раскусить. Обычно мама этого так бы не оставила. Вернула бы буфетчице в обмен на тот же кекс. Она боролась за свои права. Но не в тот момент чистосердечного признания. Оказалось, что отец ее был иностранец. За что и поплатился жизнью.
Тут только бы расхохотаться.
Too much.
Для меня это было слишком много. За мрамор не схватился, но почва из-под ног ушла. Я так хотел быть русским! Дедушка, то есть главный мой, питерский, чванился своей нордичностью, но при царе он тоже ведь хотел. Пошел на войну, чтобы геройством заслужить право на русскость.
Я раскалывал маму дальше, она поддавалась, то и дело оглядываясь на мужчину у дальнего столика. Потом мы сели в новенькие кресла на хромированных ножках. Мне захотелось в туалет. «Тебя проводить?» Нет, я спустился сам. На обратном пути остановился у киоска. Мне нужно было поделиться тем, что я только что узнал. С записной книжкой.
Когда самолет взлетел, я нарисовал на блекло-бирюзовой обложке символ. Кинжал, скрещенный с увеличительным стеклом. Шерлок Холмс был моим идеалом, я хотел стать детективом. Разгадывать тайны. И вот одна на меня так обрушилась, что был сам не рад.
На Пяти углах первым делом поделился с дедушкой, который вместе с бабушкой встретил меня в Пулково. Он не удивился. Уже знал от мамы, что второй мой дед был австрияк. Много повидал он их в Галиции. Главным образом убитых. И раздувшихся от жары, как жабы. Ночью полз во ржи в разведку, въехал одному рукой в брюхо, оно лопнуло и всего обдало. Ф-фу!
Мы хохотали. Ему оставалось лето, два с лишним месяца. И я был вызван к смертному одру, чтобы он успел мне передать то, что считал он важным. Для детских ушей или нет, значения уже не имело. Чего не понимаешь, найдешь потом в книгах. Про гимназию – Гарин-Михайловский. Который бросился в пролет. Про юнкерское училище – в «Юнкерах» Куприна.